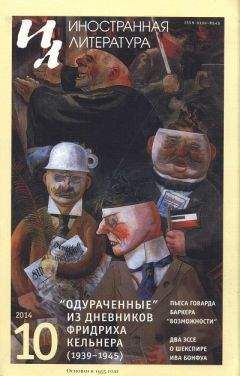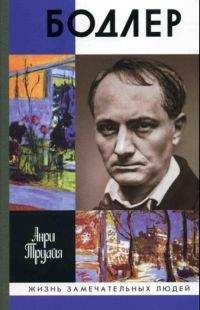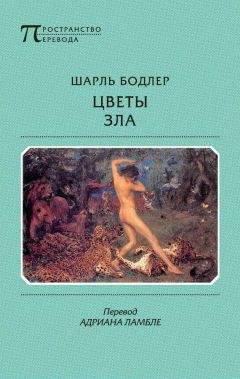Шарль Бодлер - Цветы зла
LXXX. Алхимия скорби
Один рядит тебя в свой пыл,
Другой в свою печаль, Природа.
Что одному гласит: «Свобода!» —
Другому: «Тьма! Покой могил!»
Меркурий! ты страшишь меня
Своею помощью опасной:
Мидас алхимик был несчастный —
Его еще несчастней я!
Меняю рай на ад; алмазы
Искусно превращаю в стразы;
Под катафалком облаков
Любимый труп я открываю
И близ небесных берегов
Ряд саркофагов воздвигаю…[89]
LХХХI. Манящий ужас
«Какие помыслы гурьбой
Со свода бледного сползают,
Чем дух мятежный твой питают
В твоей груди, давно пустой?»
– Ненасытимый разум мой
Давно лишь мрак благословляет;
Он, как Овидий, не стенает,
Утратив рай латинский свой!
Ты, свод торжественный и строгий,
Разорванный, как брег морской,
Где, словно траурные дроги,
Влачится туч зловещий строй,
И ты, зарница, отблеск ада, —
Одни душе пустой отрада![90]
LXXXII. Молитва язычника
Влей мне в мертвую грудь исступленье;
Не гаси этот пламень в груди,
Страсть, сердец ненасытных томленье!
Diva! supplicem ехаudi!
О повсюду витающий дух,
Пламень, в недрах души затаенный!
К медным гимнам души исступленной
Преклони свой божественный слух!
В этом сердце, что чуждо измены,
Будь царицей единственной, Страсть —
Плоть и бархат под маской сирены;
Как к вину, дай мне жадно припасть
К тайной влаге густых сновидений,
Жаждать трепета гибких видений![91]
LXXXIII. Крышка
Куда ни обрати ты свой безумный бег —
В огонь тропический иль в стужу бледной сферы;
Будь ты рабом Христа или жрецом Киферы,
Будь Крезом золотым иль худшим меж калек,
Будь вечный домосед, бродяга целый век,
Будь без конца ленив, будь труженик без меры, —
Ты всюду смотришь ввысь, ты всюду полон веры
И всюду тайною раздавлен, человек!
О Небо! черный свод, стена глухого склепа,
О шутовской плафон, разубранный нелепо,
Где под ногой шутов от века кровь текла,
Гроза развратника, прибежище монаха!
Ты – крышка черная гигантского котла,
Где человечество горит, как груды праха![92]
LХХХIV. Полночные терзания
Как иронический вопрос —
Полночный бой часов на башне:
Минувший день, уже вчерашний,
Чем был для нас, что нам принес?
– День гнусный: пятница! К тому же
Еще тринадцатое! Что ж,
Ты, может быть, умен, хорош,
А жил как еретик иль хуже.
Ты оскорбить сумел Христа,
Хоть наш Господь, он – Бог бесспорный! —
Живого Креза шут придворный, —
Среди придворного скота
Что говорил ты, что представил,
Смеша царя нечистых сил?
Ты все, что любишь, поносил
И отвратительное славил.
Палач и раб, служил ты злу,
Ты беззащитность жалил злобой.
Зато воздал ты быколобой
Всемирной глупости хвалу.
В припадке самоуниженья
Лобзал тупую Косность ты,
Пел ядовитые цветы
И блеск опасный разложенья.
И, чтоб забыть весь этот бред,
Ты, жрец надменный, ты, чья лира
В могильных, темных ликах мира
Нашла Поэзии предмет,
Пьянящий, полный обаянья, —
Чем ты спасался? Пил да ел? —
Гаси же свет, покуда цел,
И прячься в ночь от воздаянья![93]
LХХХV. Грустный мадригал
Не стану спорить, ты умна!
Но женщин украшают слезы.
Так будь красива и грустна,
В пейзаже зыбь воды нужна,
И зелень обновляют грозы.
Люблю, когда в твоих глазах,
Во взоре, радостью блестящем,
Все подавляя, вспыхнет страх,
Рожденный в Прошлом, в черных днях,
Чья тень лежит на Настоящем.
И теплая, как кровь, струя
Из этих глаз огромных льется,
И хоть в моей – рука твоя,
Тоски тяжелой не тая,
Твой стон предсмертный раздается.
Души глубинные ключи,
Мольба о сладострастьях рая!
Твой плач – как музыка в ночи,
И слезы-перлы, как лучи,
В твой мир бегут, сверкая.
Пускай душа твоя полна
Страстей сожженных пеплом черным
И гордость проклятых она
В себе носить обречена,
Пылая раскаленным горном,
Но, дорогая, твой кошмар,
Он моего не стоит ада,
Хотя, как этот мир, он стар,
Хотя он полон страшных чар
Кинжала, пороха и яда.
Хоть ты чужих боишься глаз
И ждешь беды от увлеченья,
И в страхе ждешь, пробьет ли час,
Но сжал ли грудь твою хоть раз
Железный обруч Отвращенья?
Царица и раба, молчи!
Любовь и страх – тебе не внове.
И в душной, пагубной ночи
Смятенным сердцем не кричи:
«Мои демон, мы единой крови!»[94]
LХХXVI. Предупредитель
В груди у всех, кто помнит стыд
И человеком зваться может,
Живет змея, – и сердце гложет,
И «нет» на все «хочу» шипит.
Каким ни кланяйся кумирам, —
Предайся никсам иль сатирам, —
Услышишь: «Долга не забудь!»
Рождай детей, малюй картины,
Лощи стихи, копай руины —
Услышишь: «Долог ли твой путь?»
Под игом радости и скуки
Ни одного мгновенья нет,
Когда б не слышался совет
Жизнь отравляющей гадюки.[95]
LXXXVII. Непокорный
Крылатый серафим, упав с лазури ясной
Орлом на грешника, схватил его, кляня,
Трясет за волосы и говорит: «Несчастный!
Я – добрый ангел твой! узнал ли ты меня?
Ты должен всех любить любовью неизменной:
Злодеев, немощных, глупцов и горбунов,
Чтоб милосердием ты мог соткать смиренно
Торжественный ковер для Господа шагов!
Пока в твоей душе есть страсти хоть немного,
Зажги свою любовь на пламеннике Бога,
Как слабый луч прильни к Предвечному Лучу!»
И ангел, грешника терзая беспощадно,
Разит несчастного своей рукой громадной,
Но отвечает тот упорно: «Не хочу!»[96]
LХХХVIII. Далеко, далеко отсюда
Здесь сокровенный твой покой,
Где, грудь полузакрыв рукой,
Ты блещешь зрелой красотой!
Склонив овал грудей лилейный,
Ты внемлешь здесь благоговейно
В тиши рыдание бассейна.
Здесь, Доротея, твой приют;
Здесь ветра вой и вод журчанье
Тебе, коварное созданье,
Песнь колыбельную поют!
Твои все члены нежно льют
Бензоя вкруг благоуханья;
В углу, в истоме увяданья,
Цветы тяжелые цветут.[97]
LХХХIХ. Пропасть
Паскаль носил в душе водоворот без дна.
– Все пропасть алчная: слова, мечты, желанья.
Мне тайну ужаса открыла тишина,
И холодею я от черного сознанья.
Вверху, внизу, везде бездонность, глубина,
Пространство страшное с отравою молчанья.
Во тьме моих ночей встает уродство сна
Многообразного, – кошмар без окончанья.
Мне чудится, что ночь – зияющий провал,
И кто в нее вступил – тот схвачен темнотою.
Сквозь каждое окно – бездонность предо мною.
Мой дух с восторгом бы в ничтожестве пропал,
Чтоб тьмой бесчувствия закрыть свои терзанья.
– А! Никогда не быть вне Чисел, вне Созданья![98]
XC. Жалобы Икара
В объятиях любви продажной
Жизнь беззаботна и легка,
А я – безумный и отважный —
Вновь обнимаю облака.
Светил, не виданных от века,
Огни зажглись на высоте,
Но солнца луч, слепой калека,
Я сберегаю лишь в мечте.
Все грани вечного простора
Измерить – грудь желанье жгло, —
И вдруг растаяло крыло
Под силой огненного взора;
В мечту влюбленный, я сгорю,
Повергнут в бездну взмахом крылий,
Но имя славного могиле,
Как ты, Икар, не подарю![99]
XCI. Задумчивость
Остынь, моя Печаль, сдержи больной порыв.
Ты Вечера ждала. Он сходит понемногу
И, тенью тихою столицу осенив,
Одним дарует мир, другим несет тревогу.
В тот миг, когда толпа развратная идет
Вкушать раскаянье под плетью наслажденья,
Пускай, моя Печаль, рука твоя ведет
Меня в задумчивый приют уединенья,
Подальше от людей. С померкших облаков
Я вижу образы утраченных годов,
Всплывает над рекой богиня Сожаленья,
Отравленный Закат под аркою горит,
И темным саваном с Востока уж летит
Безгорестная Ночь, предвестница Забвенья.[100]
XCII. Самобичевание
К Ж. Ж. Ф.
Я поражу тебя без злобы,
Как Моисей твердыню скал,
Чтоб ты могла рыдать и чтобы
Опять страданий ток сверкал,
Чтоб он поил пески Сахары
Соленой влагой горьких слез,
Чтоб все мечты, желанья, чары
Их бурный ток с собой унес
В простор безбрежный океана;
Чтоб скорбь на сердце улеглась,
Чтоб в нем, как грохот барабана,
Твоя печаль отозвалась.
Я был фальшивою струной,
С небес симфонией неслитной;
Насмешкой злобы ненасытной
Истерзан дух погибший мой.
Она с моим слилася стоном,
Вмешалась в кровь, как черный яд;
Во мне, как в зеркале бездонном
Мегеры отразился взгляд!
Я – нож, проливший кровь, и рана,
Удар в лицо и боль щеки,
Орудье пытки, тел куски;
Я – жертвы стон и смех тирана!
Отвергнут всеми навсегда,
Я стал души своей вампиром,
Всегда смеясь над целым миром,
Не улыбаясь никогда![101]
XCIII. Неотвратимое