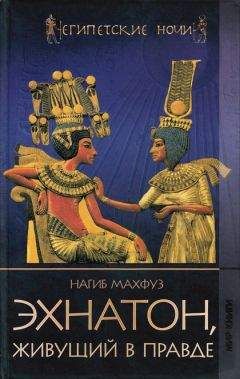Дерек Уолкотт - Стихотворения (журнальный вариант)

Обзор книги Дерек Уолкотт - Стихотворения (журнальный вариант)
Дерек Уолкотт
Лауреат Нобелевской премии по литературе (1992)
Ничего, кроме искренности…
Опубликовано в журнале: «Дружба Народов» 1998, № 9
Перевод и вступление Изабеллы Мизрахи
В своем заявлении Шведская академия, присуждая Нобелевскую премию в области литературы за 1992 год Дереку Уолкотту, отметила, что он “обладает историческим видением, рожденным разнообразной культурой Карибского бассейна”, и что “в своем творчестве поэт, развивая карибскую культуру, обращается к каждому из нас. Вест-Индия обрела в нем великого поэта”.
Дерек Уолкотт родился в 1930 году на острове Сент-Люсия, входящем в архипелаг Малых Антильских островов. В те времена над Сент-Люсией еще развевался Британский флаг. В родословной поэта перемешались африканские, голландские и английские корни, две его бабки вышли из семей рабов.
Родители Уолкотта были учителями, сент-люсийскими интеллигентами, и передали свою страсть к живописи, литературе и театру сыну. Дом был полон книг, которые он читал на английском языке. Языком его детства был креольский. Уолкотт закончил университет Вест-Индии на Ямайке и получил классическое английское образование.
В положении выбора между национальной культурой и английско-европейской традицией оказались многие литераторы Вест-Индии. Путь Уолкотта — это синтез, чудесный сплав: настоянная на европейских корнях и прожаренная карибским солнцем, его поэзия обрела свежесть мироощущения, открывая новые смыслы западных концептов и понятий.
Дерек Уолкотт — автор одиннадцати поэтических сборников, девять из них удостоены литературных премий. Его пьесы составили пять томов. Он живет на Тринидаде и в Бостоне, где преподает литературу и писательское мастерство в Бостонском колледже.
Поправка к завещанию
В шизофреника превратил меня стиль
этой прозы внаем. Что же, я заслужил
свою ссылку. По песку, вслед за лунным серпом, столько миль
исходил,
до кости обгорев,
чтобы с кожей сошла к океану любовь.
Поменять язык, как родиться вновь.
Старой правды не оправдать.
Утомив горизонт, волны пробуют вспять,
им навстречу чаек проржавленный крик —
как тогда, в Шарлотсвилле, зловеще парят
над телами прогнивших пирог.
Как я верил тогда, что люблю свой народ бескорыстно!
Передумывать поздно — нет мест у корыта.
Наблюдаю теперь победителей, рвущих как псы
друг у друга объедки удачи.
Я полжизни прожил,
и с обугленных рук
сходит кожа
слоями, как лук.
В сердце пусто, нет страха конца.
Слишком многих я знал мертвецов.
Все похоже у них,
даже смерть. И в огне
плоть уже не страшит
ни горнило печное,
ни зольник земли,
ни плывущий из облака в облако призрак луны,
отбеливший берег опять в чистый лист.
Безразличие — та же ярость. Только молчит.
Морской виноград
Пригнувшийся к свету парус
устал от островов,
блуждая в Карибском море.
Может быть, Одиссей
Итаку ищет опять.
Этот отец и муж
под сенью корявых ветвей
кислого винограда слышал лишь “Навсикая”
в криках чаек.
Страсть или долг — нет конца
этой древней войне,
и она все та же
и для морского скитальца,
и для того, кто, домой
собираясь сейчас, от песка отряхает сандалии,
с тех пор, как оплакала Троя последний пожар
и ослепший циклоп бросил камень в корыто.
Из этого вала
гекзаметры донес истощенный прибой.
Классики могут утешить. Но этого мало.
Окончания
Не взрываются вещи —
высыхают и блекнут,
как плечо гасит луч
или пену песок.
Даже молния страсти
не кончается громом
и с беззвучьем цветов
увядает, как кожа,
отслоенная пемзой.
Все в природе похоже,
пока мы не услышим тот звук
тишины — как Бетховен,
теряющий слух.
Итоги
Я живу у воды.
Один. Без жены и детей.
Я кружил не по одной дороге,
чтобы выйти сюда:
низкий домик у серой воды,
окна всегда открыты
на привычное море.
Не вольные выбрать себя,
мы — плоды наших дел.
Годы проходят, мы стряхиваем страх,
но жажда к преодоленью остается.
Любовь — это камень,
осевший на морском дне.
И теперь я не требую от поэзии ничего,
кроме искренности —
ни жалости, ни славы, ни исцеления.
Молчаливая жена — с ней можно сидеть у серой воды
и оставаться скалой среди волн,
выносящих на песок мусор бездарности.
Мне следует разучиться чувствовать,
забыть свой дар.
А это труднее того, что принимают за жизнь.
Из книги «Счастливый путешественник»
Опубликовано в журнале: «Знамя» 1998, № 7
Перевел с английского Виктор Куллэ
Derek Walcott, “The Fortunate Traveller” (Faber & Faber, London, 1982)
Старая новая Англия
Черные клиппера, вымазанные китовой кровью, складывают паруса,
вступая в Нью-Бедфорд, Нью-Хэвен, Нью-Лондон.
Шпиль белой церкви усвистывает, навроде рыбы-меча,
в пространство, ракета буравит небо, как вниз по склону
холма ручьи в ледяных шевронах мчат,
и, чтя ветеранов Вьетнама, звезднополоса-
тый флаг молотит кресты зеленых крестьянских парней.
Смену времен года по-прежнему много верней
определять по прожилкам листа и венам на теле;
колонны дубов на марше всякий раз по весне
ветер тревожит памятью о войне,
население целой округи вылущившей из святцев.
Склон холма по-прежнему ранен тонким
шпилем белой молельни, индейская тропа
стекает коричневой кровью китовой, кипя
рябиной, — отметины зверя на бревнах,
выжженных дочерна как Библия адской топкой.
Крики войны свернулись тугой спиралью в сонной
иконе индейской души — каменно-оперенной
белой сове, и рельсы стрелою ровной
уносятся в горы, где нет ирокезов в помине.
Весна пронзает рану и лес, ручеек несется
с березового настила, раскалываясь на солнца
бус и зеркал — обещанья, торжественно данные и не
исполненные, Республику сделали тем, что ныне.
Вершина нашей упёртости — дуб, в преддверьи весны
пустивший мощные корни и заверяющий шумно,
что Бог милосерд, но меч Его разит не на шутку;
гарпун Его — белая пика церкви; кольца в стволе
березы — Его сознанье, блуждающее по земле;
гнев Его — чаны, в которых плавили зверя над топкой,
когда черные клиппера приносили (закреплены
ванты вокруг салингов) наших детей с Востока.
Американская Муза
Не красотка с рекламы — женщина,
тетка некая сухопарая,
чуть костлявого телосложения,
вся в веснушках, еще не старая,
чей мужчина разбился на сталепрокатном,
чья дочь грызет грубые зерна в какой-то коммуне в Аризоне,
чей сын — сухой кукурузный венок
на дверях;
Муза переселенцев,
Уолкера Эванса[1] Муза,
подбоченясь в дверях,
на порог не захочет пустить
и в полицию Штата
немедленно станет звонить;
но она, словно нить,
так тонка от рожденья, так напряжено,
озабочено, обожжено
ветром впалое личико; то, как
она кривит рот свой, который тоньше
прутьев изгороди тощей
и бесшумен как рак.
Мне так жаль ее. Мне бы
она, вероятно, как раз.
Фантазер пополуденных трасс —
поспешающий следом мечтатель —
сквозь прозрачный его силуэт городки и луга
постепенно сменяют друг друга —
по-прежнему верит
в ангелочков бескрылых,
как тот, кто стоит на краю
пролетающей мимо него автострады, надеясь,
что поймает попутку в приливной волне
безразличного транспорта.
Уэльс
Неду Томасу
Щиплющая хребты Сноудона белая пена
будет тучнеть руном и тронется постепенно
вниз на зимовку, мимо аллитерации склонов,