Юрий Кублановский - Сборник стихов
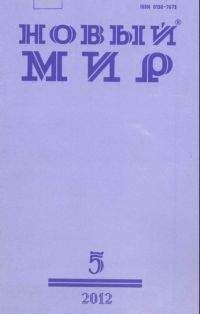
Обзор книги Юрий Кублановский - Сборник стихов
Сборник стихов
Кублановский Юрий. Поздние стансы
«Много рябины, солоду…»
Много рябины, солоду,
ив — на обрывах Леты.
Делавший в книгах смолоду,
как дурачок, пометы,
запер я ближе к холоду
рамы на шпингалеты.
Это не то что средние
годы мои прошли,
это, считай, последние
годы меня нашли.
Днём всё пытались в целое
тучи сложиться, но
чаще клубилось белое,
тёмным подпалено,
и колтуны несжатые
ветер трепал хлебов,
вызвавшись в провожатые…
Я же заместо снов
в ночь раскалённо-тусклую
вижу, как смотрит на
нашу пучину русскую
с трупным пятном луна.
РИМСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Памяти Е. Ш.
Реки имеют свою природу,
не ясную до конца.
Много втянула в себя народу
их тёмная зеленца.
Брусчатка набережной, карниз
над рустом щербат везде.
И слышится шевеленье крыс
в береговой тресте.
Одни подгнившие невода
ракит шелестят вдогон
тому, кто встарь приходил сюда
и вглядывался в планктон.
Спроси у месяца, у звезды:
зачем они заодно
с пучинным током ночной воды…
И мнится, не под Ливорно, но
здесь Шелли, блузы не сняв, погиб,
что с вольного взять певца?
Он думал форсировать брассом Тибр,
и Тибр не пустил пловца.
ИВАН ДА МАРЬЯ
Иван-да-марья да львиный зев
мироточили окрест когда-то
давно в полуденный разогрев.
Ищи-свищи теперь виноватых
в засилье нынешнего репья.
И полисад с сиротой рябиной
необитаемого жилья
нам отвечает тоской звериной.
Давно заволжское вороньё
угомонилось уж в кронах сосен.
А годы, годы берут своё
с заплечным грузом, чей вес несносен —
из-за коробочки порошка
зубного явно не с рынков новых,
ветровки, занятой у дружка
на время северных дней суровых.
Была ведь молодость без угла,
узкоколейкой тряслись в вагонце,
и ты в испуге, что ночь прошла,
кивнула на киселёк в оконце,
где отразилось твое лицо
поверх бегущего перелеска
……………………….
У других отторжение, вспомнят — вздрагивают,
ничего её не любя.
А меня Россия затягивает,
втягивает в себя.
ВОЙНА И МИР
Снова старик Солярис
в дальнем углу вселенной
воспроизводит что-то:
усадебные ворота,
боярышник и физалис,
жизни клочок смиренной…
Муаровой промельк юбки
упрямицы, верной трону,
и никакой уступки
заезжему фанфарону,
вернее сказать, поэту.
Уснувший на сеновале,
он сделался схож к рассвету
с охотником на привале.
Некогда там, далече,
и бытовалось проще,
и помиралось легче,
как светотени в роще,
откуда в окошко пташка
влетела и растрепала
сальный темляк на шашке
покойного генерала.
ПАМЯТИ ФЕТА
Казалось, в ногу с практичным временем
иди, забыв про любовь и жалость.
Но над лысевшим с годами теменем
пространство звёздное разрасталось.
Как быть тут с музыкою взыскующей
в одной луной освещённом зальце,
где весь раскрыт, будто топь, бликующий
рояль — при беглости в каждом пальце…
Нет, мир не воля и представление,
что на него положили глаз мы,
а на амбарном клочке творение
про ночь и слёзные в горле спазмы.
Под спудом в крипте села Клеймёнова,
где сыровато и мало света,
каким-то чудом до лета оного
не потревожены мощи Фета.
«Вдруг шепоток недолгий…»
С. Кистенёвой
Вдруг шепоток недолгий:
— Копи царя Бориса,
Красная слобода
где-то в верховьях Волги…
Антоновки и аниса
был урожай тогда.
И дотемна играли
в городки пацаны.
А у отцов — медали,
лица обожжены.
Там, как запретный пряник
иль дорогой трофей,
прятал киномеханик
в круглых коробках змей.
Много позднее сшила
мать, изумив родных,
из светлого крепдешина
платье для выходных.
Падкий на золотишко
маугли сникших рощ,
соберу-ка я рюкзачишко,
чтоб оставался тощ.
Осени подмалёвки…
Будет вопрос решён
даже без поллитровки.
Только держись, ветровки
сплющенный капюшон!
ГРЕШНЕВО
Золотисто-иконостасные
дни такие, что на колени
опускаешься, видя красные
капсулы шиповника в светотени.
Нет, моя Россия не для запойного
дурака на селе ли, в городе,
но для верного, беспокойного
сердца, что горячо и в холоде.
Но она и для сердца падшего.
Ездил в Грешнево — там в печи
темнота; шелестит опавшее…
Вот и снится с тех пор в ночи
разорённый склеп Некрасова старшего:
осыпная яма и кирпичи.
ПОЗДНИЕ СТАНСЫ
С землёй теперь не поспоришь —
с тех самых десятилетий,
как лёг в неё первый кореш,
а следом — другой и третий.
Но она опустилась
во вред соловью и пенке,
да так, как, поди, не снилось
какому-нибудь Лысенке.
Выбрал бы жизнь другую:
того, кто, проснувшись рано,
лил себе ледяную
на мозжечок из крана,
или того, кто долго
любил поваляться с книжкой,
или того, кто чёлкой
тряс, как последней фишкой.
Но оборвались сроки,
не доисполнясь даже,
спортсменов и лежебоки.
В новом эоне я же,
траченный болью, солью,
видя, как ты красива,
начал смиряться с ролью
частного детектива.
Правда, ещё остались
нетронутые глубины,
куда мы уйти пытались
и вынырнуть, выгнув спины.
Да разве кому-то с нашим
дыхательным аппаратом
в лазоревой толще станешь
товарищем или братом?
Всё-таки только небу
сегодня я доверяюсь,
единому на потребу,
робеючи, приобщаюсь.
Как будто после пробежки
голову задираю
и будущих странствий вешки
заранее расставляю.
«Как работяг на полюсе…»
Как работяг на полюсе,
где замерзает ртуть,
ветер сгибает в поясе
и не пускает в путь.
Всё интенсивней тёмное
светлого визави.
Много осталось тёплого
в старой моей крови,
тёплого и мятежного.
Но в гулевой груди
ласкового и нежного
зверя не разбуди.
Стать бы тобою чаемым,
вновь заплутав в пути,
малоимущим фраером
лет двадцати пяти
с траченным примой голосом.
Чтоб у замёрзших рек
сыпался нам на волосы
и парусинил снег.
Чтобы вдвоём с усильями
шли мы рука в руке,
шли…
И вожатых с крыльями
видели вдалеке.
Евса Ирина. Створка твоего окна



