Евгений Евтушенко - Счастья и расплаты (сборник)
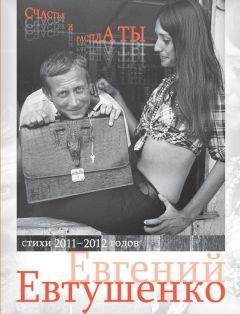
Обзор книги Евгений Евтушенко - Счастья и расплаты (сборник)
Евгений Евтушенко
Счастья и расплаты (сборник)
Дора Франко. Поэма
Что такое доисповедь?
это значит доискиваться
до того, что есть жизнь, —
не твоя, не чужая, —
и вся
Дора Франко
(доисповедь)
Никакого не может быть «изма»,
выносимого до конца,
если даже подобье изгнано
человеческого лица.
По существу, вся моя лирика – это сборник исповедей перед всеми. И вот пришло время доисповедоваться.
Эта любовная приключенческая поэма моей юности написана с милостивого разрешения ее героини Доры и моей жены Маши, которой поэма, вопреки моим опасениям, понравилась, да и нашим сыновьям – двадцатитрехлетнему Жене и двадцатидвухлетнему Мите. Честно говоря, я побаивался, как жена к этому отнесется, особенно – в канун нашей серебряной свадьбы. Но, слава Богу, Маша, как всегда, проявила мудрость. Ведь нет ничего бессмысленней, чем ревновать к прошлому.[1]
1
Что-то я делал не так,
извините, —
жил я впервые на этой земле.
La vida de Evtushenko es un saco,
lleno de las balas e de los besos
Gonsalo ArangoЖизнь Евтушенко – это мешок, набитый пулями и поцелуями.
Гонсало Аранго(Из его книги «Медведь и колибри» (1968) – о нашей поездке по Колумбии)Я словно засохшую корочку крови сколупываю
на ране давнишней,
саднящей,
но сладкой такой,
как будто мне голову гладит
маркесовская Колумбия
твоей,
Дора Франко,
почти невесомой рукой.
И не было женщины в жизни моей до тебя идеальнее,
хотя все, кого я любил,
были лучше меня,
но не было до-историчней
и не было индианнее,
чем ты —
дочь рожденного трением
первого в мире огня.
2
В шестьдесят восьмом —
полумертвым,
угорелым я был, как в дыму.
Мне хотелось дать всем по мордам,
да и в морду – себе самому.
В шестьдесят восьмом все запуталось,
все событиями смело.
Не впадал перед властью в запуганность —
испугался себя самого.
Так я жил, будто жизнь свою сузил
в ней, единственной, но моей,
в сам собою завязанный узел
трех единственных сразу любвей.
Трех любимых я бросил всех вместе
и, расставшись, недоцеловал.
Все любови единственны, если
за обвалом идет обвал.
Я всегда жизнь любил упоительно,
но дышать больше нечем,
когда
все горит
и в любви, и в политике,
а пойдешь по воде —
и вода.
И тогда за границу я выпросился,
оказавшись в осаде огня,
будто я из пожара выбросился,
пожирающего меня.
Был я руганый-переруганный.
Смерть приглядывалась крюком,
но рука протянулась Нерудина,
в Чили выдернула прямиком.
Как читал я стихи вместе с Пабло!
Это было – дуэт двух музык,
и впадал, словно Волга, так плавно
в их испанский мой русский язык.
Двупоэтие было красивое,
и Альенде – еще кандидат —
повторял, как студенты, грассируя:
«В граде Харькове – град, град…»
Ну а после —
не на небеса еще —
пригласили меня в Боготу,
в потрясающую и ужасающую
красоту,
нищету,
наготу.
Я летел через Монтевидео,
и мне снились недобрые сны.
Было, кажется, плохо дело
и в Москве, и у Пражской весны.
Для наивного социалиста
при всемирнейшем дележе
было страшно, что дело нечисто
Ну а рук не отмоешь уже.
И чем больше ханжили обманно,
я не верил в муру всех гуру:
вдруг из нищенского кармана
танки выкатят сквозь дыру?
Никакого не может быть «изма»,
выносимого до конца,
если даже подобье изгнано
человеческого лица.
Пригласили меня «ничевоки».
Сам Гонсало Аранго[2],
их вождь,
меня обнял:
«Поэт, ну чего ты?
Ждет тебя здесь то,
что ты ждешь».
Я подумал:
«Звучит как заманка» —
и спросил будто со стороны:
«Что же ждет меня?» —
«Дора Франко.
Друг для друга вы рождены».
Симпатичный был парень Гонсало,
но душа моя за́долго до
от сосватыванья ускользала
даже, помню, с Брижитой Бардо.
И парижские комсомольцы
из журнала гошистов «Кларте»
не сумели напялить нам кольца —
пальцы, видимо, были не те.
А не то бы я, на́ смех вселенной,
не оставшись поэтом никак,
ее кошек, собачек над Сеной
лишь прогуливал на поводках.
Но вернемся в Колумбию, в пальмы,
куда сам, как не знаю, попал
и сибирским поэтом опальным
с «ничевоками» выступал.
С Че Геварой бунтарские майки
в парке буйно алели, как маки,
и на сцену, как на пьедестал,
мы с Гонсало в двух разных калибрах
вышли, будто медведь и колибри,
как он в книге потом написал.
В парке на безбилетном концерте,
хоть и не было благостных дам,
было тихо сначала, как в церкви,
но прошел ропоток по рядам.
Подержались мятежники в рамках,
но потом как с цепи сорвались.
«Дора Франко пришла! Дора Франко!» —
и шмальнула ракетница ввысь.
Иронически-благоговейно
враз обрушилось: «Viva la reina!»[3],
но восторг был завистлив, нечист:
был в нем и ядовитенький свист.
Кто-то в ход запустил старый способ
превращать все вопросы в плевки:
«Дора, сколько тебе дал твой спонсор
на твои золотые чулки?»
Но ни ног, ни чулок со сцены
и деталей других, что бесценны,
я не видел в толпе все равно,
а лицо я ловил по кусочкам,
по оттянутым серьгами мочкам,
глаз и губ колдовским уголочкам,
но лицо не собралось в одно.
Лишь величественно, лебедино
промелькнувшая издалека
свист и хлопанье победила
усмиряющая рука.
И, под рифмы плакаты вздымая,
столько вдруг молодых че гевар,
аплодируя, спрыгнули с маек
на земной покачнувшийся шар.
Кровь взыграла во мне ошарашинками,
ведь соски колумбийских девчат,
как Аронов[4] писал, карандашиками,
поднимая их майки, торчат.
Ну а после случилось, наверно,
то, что Маркес наворожил, —
я зашел в развалюшку-таверну,
словно был в Боготе старожил.
И как будто мне песню пропели
где-то ангелы в небесах,
я пошел на зеленый пропеллер
изумрудной петрушки в зубах.
И сидевшая там незнакомка,
за себя чей-то слушая тост,
той петрушкой так хрумкала громко,
и глаза надвигались огромно,
ну а я им в ответ неуемно
вцеловался в зелененький хвост.
Я, с петрушкой шутя, заигрался,
и, как будто бы в крошечный храм,
я по ней, горьковатой, добрался
к сладко влажным отважным губам.
И нырнул я глазами в два глаза,
так и полных соблазном по край,
где ни в чем я не видел отказа,
кроме только приказа: ныряй!
И меня, не убив беспричинно,
не понявшие, как поступать,
с ней меня отпустили мужчины,
а их было не меньше чем пять.
И, когда я проснулся с ней утром,
она будто ребенок спала
как в плывущем суденышке утлом,
а куда? Да в была не была.
Не бывает любовь чужестранкой.
Я спросил: «Как же имя твое?» —
и услышал: «Я Дора Франко»
от еще полуспящей ее.
Мы любили три дня и три ночи.
Я был ею – она была мной.
В сумасшественном непорочье
«Камасутра» казалась смешной.
Мое тело ее так хотело,
став как будто душой во плоти,
и, как в пропасть, на дно полетело
глаз, безмолвно сказавших: лети!
В день четвертый, по коридору
в туалет заглянув босиком,
босиком я увидел и Дору,
ногу брившую с легким пушком.
А нога была нежной, прекрасной,
притягательной, чуть смугла,
ну а бритва не безопасной,
а складной и старинной была.
Дора с ужасом откровенным
не успела прикрыть свою грудь,
попытавшись по веточкам-венам
от позора себя полоснуть.
Я успел вырвать все-таки бритву
и устами уста разлепил,
а она бормотала молитву,
чтобы я ее не разлюбил.
И плескались мы, весело мылясь,
в узкой ванне, где не разойтись,
и так празднично помирились,
будто взмыли в небесную высь.
Оба стали как будто младенцами
в той купели в предутренний час,
так что крыльями, как полотенцами,
обтирали все ангелы нас.
Мы любили свободно и равно,
будто нет ни вражды,
ни войны.
Как сказал мне Гонсало Аранго:
«Друг для друга вы рождены».
3
Что мне все картели, все раздоры
и с наркобаронами война —
потерялась туфелька у Доры
и найтись, неверная, должна.
Правая нашлась
и хитро дразнит,
тяжкая от мокрого песка,
левая,
себе устроив праздник,
где-то рядом прячется пока.
Говорю я правой,
как ребенку:
«Что же ты ее не ищешь?
Ну!
Помоги найти свою сестренку,
а иначе —
в океан швырну!»
Я песок вытряхиваю нежно,
туфельку держа за ремешок,
тычу, чтобы внюхалась прилежно
в прячущий ее сестру песок.
Выполнила туфелька задачку,
просьбу поняла она всерьез,
и ее, как верную собачку,
я целую в черный мокрый нос.
А потом уже тебя целую.
В пальчиках – две туфли у тебя,
но себя никак не исцелю я,
узел всех страстей не разрубя.
Что мне делать с каждой драгоценной,
с каждой непохожей на других,
если я один перед вселенной
глаз, одновременно дорогих?
Что же Бог? Он вряд ли отзовется,
лишь вздохнув и пот стерев со лба.
Он-то знает, что в Петрозаводске
xодит в детский сад моя судьба.
4



