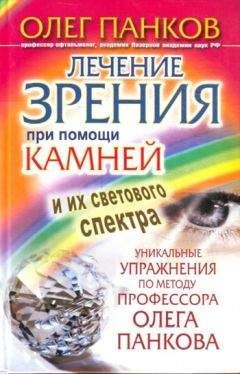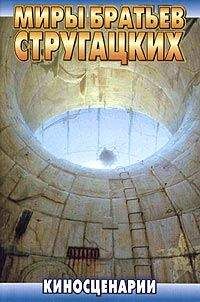Иосиф Маневич - За экраном
Сценарий «Большие и маленькие» был написан мною для «Мосфильма». Ставить его должен был режиссер С. Самсонов. Мы долго и горячо работали, спорили. Самсонову очень нравился сценарий. Многие эпизоды он увлеченно разыгрывал передо мной. В результате сценарий был принят, я уехал, и в одну неделю все изменилось. Самсонов вдруг решил ставить «Оптимистическую», и руководство выключило сценарий из плана. Произошла обычная для кино история, только потом я узнал, что, работая со мной, режиссер уже вел переговоры с другими, – это было его правом, но всякий раз подобная ситуация становилась очень болезненной. Нужно было что-то предпринять, жаль было сценарий. Мне, да и не только мне, он казался интересным.
Я отдал его Лукову. Долго, очень долго тянулось время, я не напоминал, мало веря в перспективность жизни сценария без конкретного режиссера.
И вдруг, наверное, через месяц, раздался звонок, говорил Леня:
– Жозя, ты написал прекрасную вещь! Нужно снимать как можно скорее. Этот фильм нужен людям! Боль материнского сердца, неблагодарность детей… Непонятый талант ребенка. Это нужно! Я снимал бы сам, но нельзя ждать… Мы берем!
– Кто же будет снимать, кто режиссер?
– Я отдам Марине Федоровой. Пока что она снимала средние фильмы. Но сценарий ее подымет, она знает детей!
– Скажи, что, если нужно, я доработаю, – произнес я традиционную фразу, которую режиссеры так любят слушать от сценаристов.
В трубку зарокотал Ленин раскатистый голос:
– Чего дорабатывать? Пусть она это сумеет снять! Люди плакать должны после фильма!
Через несколько дней мне позвонила Федорова, а еще через несколько дней студия им. Горького приобрела сценарий у «Мосфильма».
С этой работой были связаны и радости, и муки. Но фильм вышел. Я был на многих его обсуждениях в Москве и Калуге. Люди спорили, рассказывали свои семейные истории отцы, матери, школьники. Многие говорили со слезами – не как о героях фильма, а как о живых людях. Актрису Олесю Иванову называли Мамаша. Многие говорили, что это их соседи…
Сидя на сцене с актером и режиссером, я думал о Лене. Фильм оказался нужен людям, его слова оправдались, – но Лени уже не было. О его смерти мы узнали в просмотровом зале, во время приемки фильма. Он заболел в Ленинграде на съемках. Ни за что не хотел ложиться в больницу. Боялся, кричал на друзей:
– Фашисты, куда вы меня отправляете, я завтра могу снимать!..
Когда ему в больнице рассказали, что наш фильм, несмотря на перипетии, получился и хорошо принят на общественных просмотрах, он повеселел:
– Я же говорил!
У меня было ощущение, что я с ним о чем-то недоговорил, особенно неприятно мне было оттого, что после отъезда Лени в Ленинград студия «Мосфильм», видимо, чувствуя вину за неприятную историю с «Большими и маленькими», предложила мне экранизировать «Угрюм-реку». Я согласился, не зная, что это собирался делать Леня и что у него был договор. Кто-то с радостью сообщил ему об этом. Узнав, я попросил Бритикова передать ему, что это недоразумение, что я отказался и шлю ему приветы. Бритиков передал мои слова, на что Леня ответил, что не сомневался во мне и что мы сделаем вместе…
Вещи Лени были уже в вагоне, когда ему стало плохо. И нам привезли его мертвого.
Я стоял у его гроба. Он был такой же, как на портрете, смерть не изменила выражения его лица – в нем по-прежнему была сила.
Он был крупный в кости и плечах, во всем большой, он громко говорил, шумно входил в комнату, много ел, ездил целый день на большом «ЗИМе». Многих людей он любил, со многими ссорился, грубил некоторым, у него было большое сердце. Оно вмещало самые разнообразные чувства. И картины у него были разные, но почти все любил зритель. Часто ему изменял вкус, не хватало культуры, но в нем жил нутряной талант – талант сердца. Даже в неудачных его картинах было один-два эпизода, которые захватывали зрителя. Сила и талант жили рядом с хвастовством и – порой – хамством. Партийность – рядом с суеверием.
На обсуждении «Заставы Ильича», после того как критиковал материал, он вышел и рявкнул:
– Я ошибался. Это – водородная бомба в искусстве!
А как-то раз он по-хамски обругал ни в чем не повинную женщину, когда встретил ее в первый съемочный день с пустыми ведрами. И он же молчал на заседании парткома, когда его прорабатывали. Лишь в конце сказал:
– Я боялся за картину!
Немного у него было романов, но всегда – длительные, полные перипетий, разрывов, перемирий. О них знали все друзья. Он всем плакался в жилетку, ругал обидевших его женщин, а назавтра посылал телеграммы или мчался за ними в другие города.
Последний раз я встретил его в коридоре, он шел с красивой актрисой, о которой я много раз от него слышал. Он был в серой каракулевой шапке, чуть похудевший, шел рядом с нею со счастливым лицом, посмотрел на меня… Я понимающе улыбнулся, приветствуя их.
Больше я его не видел. Часто я иду тем же коридором, мимо кабинета Лукова, – там тихо, спокойно.
Много новых режиссеров уже пришло на студию. Наверное, талантом они не уступают Лукову. Но скучно – никто не взорвется, не хлопнет дверью, не побежит хлопотать о другом… Жаль, нет Лукова, говорят на студии. Все его помнят: большой он был. Много занимал места в сердцах людей, его знавших.
Маяковский
Весной 1930-го, сдав очередной материал в «Вечерке», где я тогда работал, вернулся домой, в Благовещенский. Раздался звонок телефона. Кто-то из соседей крикнул: «Жозю, из „Вечерки“!» Взял трубку: «Застрелился Маяковский!» Я замер. А дежурный секретарь, хромой Савченко, спешил: «Приехал Кирсанов, сказал: застрелился на Лубянском, – таксист с него даже денег не взял…»
Застрелился Маяковский. Это невозможно. Невозможно! Я бросился в редакцию…
Через пару дней мне довелось освещать его похороны.
И вот, стоя у гроба в почетном карауле, бродя по унылым рапповским залам в доме на улице Воровского, где сейчас Союз писателей, глядя в раскрытые двери балкона на длинную очередь, впервые вталкивающую в двери писательского дома столько читателей, я невольно вспоминал все то, что сохранилось в памяти о Владимире Владимировиче.
Впервые я увидел его на сцене клуба МГУ. Шел очередной диспут, о чем – не помню, помню только атмосферу зала, накаленную, возбужденную, выкрики, его разящие ответы и смех.
Маяковский у самой рампы, в сером костюме, в туфлях на очень толстой подошве. Он и сейчас, в гробу, лежал именно в них… Невозмутимо-насмешливое лицо Маяковского. Он сидит за маленьким столиком, слушает оратора. Рядом с ним лысая голова молодого Виктора Шкловского: отполированный череп, как перевернутый утюг, смеющиеся глаза. В аудитории жарко. Жарко мне, первокурснику: передо мной – живой Маяковский. Первые его стихи я услышал в Севастополе от приехавшего погостить моего троюродного брата. До того я и фамилии Маяковский не слышал, увлеченный яхт-клубом да книгами Буссенара и Жаколио…
Пришел домой, рассказал тете: слушал Маяковского. А затем слушал много раз – всегда присутствовал при его набегах в МГУ, при жарких схватках его с Жуткинами (так он обзывал Жарова и Уткина), штурмовал Политехнический в дни его выступлений. Помню его наверху лестницы. Миша Светлов просит пропустить нас, «литовцев». Широкий его жест – и ужас контролеров, когда мы устремились: человек двадцать.
А в 1928-м я познакомился с ним лично в «Экране», он часто заходил на Тверскую, дом 3: его стихи печатались и в «Рабочей газете», и в «Крокодиле», и в «Экране». В тот раз он принес «Стихи не про дрянь, а про дряньцо». В редакции, кроме меня, никого не было. Пришлось представиться: «Практикант, заменяю секретаря». Маяковский протянул лист. Я не решался при нем прочесть, положил на стол:
– Передам Юрию Феоктистовичу.
– А чего там Феоктистычу, читайте сами!
Я прочел. Ответ был написан на моем лице. Владимир Владимирович улыбнулся:
– Долго здесь будете?
Я сказал, что еще месяца два.
– Ну, увидимся! – Он протянул руку.
Затем я еще несколько раз встречал Маяковского в «Рабочей газете». Он приветливо здоровался.
Стихи эти, «Не про дрянь, а про дряньцо», сейчас поразили меня еще больше, чем прежде. Перечитайте. Вещие стихи. О бездуховности, о которой теперь, через полвека, пишут социологи и публицисты. «Тихо, тихо стираются грани, отделяющие обывателя от дряни… С индустриализации завел граммофон… устроил уютную постельную нишку… Берет, с удовольствием перелистывает интереснейшую книжку, книжку сберегательную».
В «Вечерку» Маяковский заходил часто, почти всегда с Кирсановым или с Асеевым, здесь мы с ним встречались уже как знакомые. Я даже заимел карточку с его автографом – пропала во время войны, а хранил как реликвию. Карточка эта много лет стояла на моем столе без рамки, чтобы все могли прочитать автограф.
В то время, когда я работал в «Вечерке», там тоже периодически появлялись стихи Маяковского: «Пролетарий, иди в планетарий», а также нашумевшие «Слегка нахальные стихи товарищам из Эмкахи». Помню, в «Вечерке» была напечатана заметка, в которой сообщалось, что зав. московским коммунхозом Цивцивадзе собирается украсить площади Москвы мраморными памятниками писателям. Через несколько дней в редакции появился Маяковский, присел на краешек стола, и его сразу облепили молодые репортеры, среди них и я. Маяковский поинтересовался, чьи бюсты будут высечены в первую очередь, а затем прочел нам «Слегка нахальные стихи товарищам из Эмкахи»… Мы были в восторге. Однако заметка-то об этом проекте оказалась опубликована именно в нашей газете, – и хотя это была только беседа с Цивцивадзе, все же чувствовалась какая-то неловкость. Сами напечатали, сами же и смеемся. Потом, вместе с Владимиром Владимировичем, мы направились к Володину. Тот долго мялся. Но через день или два стихи все-таки появились в «Вечерке». Не хочу их пересказывать, но, как всегда, эти «слегка нахальные стихи» Маяковского были восприняты как вызов. Зашумели обиженные, хоть Маяковский прошелся и по себе: не хотел узреть свой лик в мраморе. Впрочем, Цивцивадзе деятельность свою по украшению столицы приостановил, начал – по совету поэта – мостить площади и улицы.