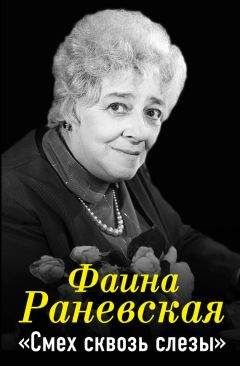Фаина Раневская - Крымские каникулы. Дневник юной актрисы
Нет, ну какой же все-таки мерзавец этот Куприн! Писателю, как человеку искусства, непростительно так отзываться об актерах. Даже если у самого роман с Мельпоменой не получился. Если когда-нибудь сподоблюсь написать пьесу, то уже знаю, чью фамилию дать самому отвратительному персонажу. Если бы я была мужчиной, то разыскала бы Куприна и вызвала на дуэль. Дуэль! Мне очень нравятся дуэли, особенно если все остаются живы! Это так возвышенно и благородно. Сердце мое замирало, когда Е. Г. рассказывала мне о дуэли двух поэтов[21], которую остряки окрестили «второй чернореченской дуэлью»[22]. С одним участником я впоследствии познакомилась[23], стихи другого произвели на меня сильное впечатление. Я радуюсь тому, что оба они остались живы. Но Куприна я бы застрелила, не дрогнув. Мне хочется верить, что застрелила бы, так сильно я его ненавижу.
Чтобы успокоиться, перечитываю записки Щепкина[24].
20 мая 1918 года. ЕвпаторияВидела во сне маму. Она сидела в своем любимом кресле и рассматривала альбом с фотографиями. Этому занятию мама может предаваться бесконечно долго. У нее превосходная память, которая по наследству перешла ко мне. Мама помнит, когда и при каких обстоятельствах была сделана та или иная фотография. Она перелистывает не страницы альбома, а свои воспоминания. Когда доходит до фотографии, на которой есть покойный братик, то плачет. Когда я вошла, мама закрыла альбом и долго смотрела на меня. Я ждала, что мама что-то скажет, но она только смотрела. Взгляд ее был очень печальным. Потом на улице закричали пьяные, и я проснулась. Сна уже не было. Захотелось написать маме письмо, что я и сделала. Теперь можно отправить письмо, потому что в Таганроге тоже немцы. Не удержалась и вложила в конверт афишу со своим именем. Мы возмущались тем, что афиши были напечатаны на дрянной тонкой бумаге, но якобы сейчас хорошей бумаги достать негде. Зато такие афиши превосходно помещаются в конверте. Маме будет приятно, отцу, как я надеюсь, тоже. Возможно, они вставят афишу в рамку и повесят в гостиной. С первыми афишами так можно поступать, это не mauvais ton[25].
Павла Леонтьевна хочет, чтобы я сыграла Шарлотту Ивановну в «Вишневом саде». «Раневская в роли Раневской – это анекдот», – шутит она. Я и сама понимаю, что еще не доросла до этой роли. Интересно, как по мере накопления опыта меняются взгляды и мнения. Когда-то, когда я ехала из Таганрога в Москву, мне казалось, что любая роль мне по силам. Ох уж это упоительное всемогущество неофитов! Ничего-то они не умеют, ничего не знают и ничего не боятся. Боязнь приходит с опытом. Обожжешься разок-другой – и начинаешь трезво оценивать свои возможности. Предложи мне Е-Б.[26] сейчас роль Раневской, я бы отказалась. От Маргариты к Раневской – это все равно что из корнетов в фельдмаршалы. А вот Шарлотта мне по плечу. Павла Леонтьевна велела мне учиться фокусам и чревовещанию. «Чревовещанию выучиться несложно, надо только гороху хорошенько наесться», – глупо пошутила я, но моя неуклюжая шутка имела неожиданный эффект. Павла Леонтьевна смеялась до слез и сказала, что я не инженю, а комик. Когда, хотелось бы мне знать, я была инженю? Шарлотту решила списать с моей бонны Эмилии Генриховны, между ними есть сходство. Только вот фокусов Эмилия не знала, но зато чудесно пела романсы. С душой пела, проникновенно, так, что всех на слезу прошибало. Мне казалось странным, что ревельская[27] немка так поет русские романсы. Теперь я догадываюсь, что наша Эмилия могла мечтать о сцене. Возможно, она даже пробовала себя на ней, прежде чем податься в гувернантки. Я решила, что моя Шарлотта будет неудавшейся драматической актрисой. Провал на сцене привел ее в цирк. Ее эксцентричность есть следствие невостребованного, перебродившего таланта. Шарлотта – далеко не второстепенная роль. Недаром Чехов хотел, чтобы ее сыграла Книппер, но та меньше чем на Раневскую не была согласна. В Таганроге Книппер не любили. Ревновали ее к Чехову, нашему великому земляку, и считали чересчур меркантильной. Много разного говорили о ней, и все нелицеприятное. Но для меня она – жена Чехова, и одно лишь это обстоятельство уже возводит ее на пьедестал. Она украсила своей любовью последние годы жизни Чехова, а те, кто упрекает ее в невнимании, просто не в состоянии понять, что актриса, если она настоящая актриса, больше всего на свете любит театр. Я ее понимаю, потому что сама такая. Театр для меня все, он моя жизнь и воздух, которым я дышу.
Шарлотта Ивановна – сапожник без сапог. Ей некого уже воспитывать, у нее никого нет, ее фокусы и вся ее эксцентричность есть не что иное, как жалкая попытка обратить на себя внимание. Ее собачка – это попытка скрасить одиночество. Я чувствую и понимаю Шарлотту, потому что совсем недавно, до встречи с Павлой Леонтьевной, я была такой же одинокой и неприкаянной. Некий поэтичный молодой человек сравнил меня с цветком, втоптанным в пыль. Слово «втоптанный» сильно меня задело. Я ответила поэту грубостью, после которой нашей недолгой дружбе пришел конец. Я ужасно непрактичная, ведь молодой человек писал пьесы. Он все порывался прочесть мне одну из них, а я тогда больше думала о хорошем ужине и мягкой постели, нежели о пьесах. Напрасно я так. Вдруг он стал бы моим Чеховым? (Это я шучу над собой, ведь второго Чехова на свете быть не может, точно так же, как не может быть второго Пушкина).
Павла Леонтьевна соглашается со мной, но советует добавить в толкование роли практицизма. «У Чехова все продуманно и мотивированно», – повторяет она. Шарлотта – гувернантка при взрослых детях. Раневская в любой момент может прогнать ее. Шарлотта выбрала себе роль домашнего (придворного) шута. Она забавляет всех, потому что иначе ее могут выгнать, а идти ей некуда. Буду думать еще над толкованием образа. Я уже додумалась до того, что в прошлом у Раневской и Шарлотты была какая-то общая тайна, но пока еще не поняла, нужно ли думать об этом дальше.
У Павлы Леонтьевны есть своя теория, суть которой заключается в том, чтобы начинающие актеры играли как можно больше разных ролей, не замыкаясь в одном амплуа. Она говорит, что амплуа погубило не один талант, потому что оно обедняет опыт, не дает актеру показать себя со всех сторон. Драматургов, по ее мнению, тоже следует менять. Нельзя застревать в одном драматурге, говорит она, советуя мне после Шарлотты присмотреться к Гоголю или Островскому. Присмотреться! Как будто все зависит только от моего желания! Как будто я вольна выбирать себе роли! Милая Павла Леонтьевна! Она хочет, чтобы я как можно скорее почувствовала себя большой, настоящей актрисой. Она держится со мной как с равной, приподнимает меня до своего положения. Должна отметить, что отношение ко мне в нашем нынешнем актерском товариществе сильно отличается от отношения в труппе Л. Там меня третировали, тонко, деликатно, но третировали. Я сильно переживала, и мои переживания не могли не сказаться на моей игре. Здесь же никто меня не третирует. Я со всеми на равных. Иначе и быть не может, ведь мне покровительствуют такие титаны, как Павла Леонтьевна и С. И. На деле главой нашей труппы является Павла Леонтьевна. Е-Б. самолично ведает только нашим повседневным укладом. Относительно всего, что связано с искусством, он советуется с Павлой Леонтьевной и не принимает решений без ее одобрения.
Относительно Шарлотты. Обдумав новую роль, я озадачилась собачкой. Зачем Чехов придумал собачку, я понимаю. Я не могла понять, как с ней быть. Мне приходилось видеть на сцене чучела собачек и кошек. Меня это коробило. Сразу же возникало впечатление искусственности. Придумала каламбур: искусство не терпит искусственности. При мысли о том, что мне придется таскать за собой чучело на цепочке, пропадало все желание работать над ролью. Я слышала про дрессированных собачек, но в Евпатории таких нет. В наше время никто не хочет дрессировать собачек. Выход подсказала наша многоопытная С. И. Она посоветовала мне найти старую собаку и хорошенько кормить ее перед спектаклем. Старые собаки имеют спокойный нрав, а хорошо насытившись, впадают в некое подобие спячки. Такая собака будет покорно ходить за мной, никак не раздражаясь ни на действие, ни на публику. Весьма удачно у здешней билетерши К. В. (той самой, у которой я взяла злополучный журнал с гнусным пасквилем Куприна) оказался прелестный белый шпиц. Именно такая собака мне и нужна. Буду с ним как настоящая Дама с собачкой. Я, правда, не блондинка, но зато шпиц белый. Шпица зовут Трезор. На мой взгляд, это имя больше подходит крупной сторожевой собаке, но имя не столь важно. Важно то, что Трезор имеет спокойный нрав и мы с ним уже подружились. По совету хозяйки, которая совершенно не сердится на меня за порванный журнал, я купила Трезору мясных обрезков, покормила его из своих рук, и теперь мы друзья. Как-нибудь прогуляюсь с ним по бульвару, чтобы он лучше привык ко мне.
22 мая 1918 года. ЕвпаторияЗдесь совсем мирная, прежняя жизнь. Только плоховато с яствами, и от немецких мундиров в воздухе витает какое-то напряжение. Мы столько лет воевали с Германией, а теперь немцы хозяйничают в Евпатории. Они вежливы, некоторые офицеры приходят на спектакли, но все равно в них чувствуется нечто чужое. «Мир стал похож на дом Облонских, – горько шутит Павла Леонтьевна. – Все смешалось, и невозможно представить, чем все это закончится». Павла Леонтьевна верит в то, что все закончится хорошо, а мне как-то в это не верится. Кажется, что дальше будет только хуже. В феврале прошедшего года все радовались отречению императора. Казалось, что начнется новая, необыкновенная жизнь. Слово «свобода» звучало как нечто волшебное. Свобода! Республика! Долой войну! Свобода обернулась анархией и беспорядками. Война, которая прежде была далекой, вдруг стала близкой, люди посходили с ума. Я еще могла понять, когда Россия воевала с Германией, потому что это разные империи, у которых разные интересы, но меня ужасает, когда русские стреляют в русских. Белые, красные… Невозможно представить, что еще совсем недавно эти люди спокойно жили бок о бок друг с другом, ходили в одни и те же гимназии, посещали одни и те же театры и не помышляли о том, чтобы стрелять друг в друга. В детстве я зачитывалась «Les Misérables»[28] и искренне сочувствовала Вальжану. Как оказалось, настоящие вальжаны сильно отличаются от литературных, причем не в лучшую сторону. Благородства и сострадания в них нет ни на грош. Нам каждый день рассказывают о том, что совсем недавно творилось в Евпатории, которая сейчас кажется таким мирным городом. Этот город обстреливался с моря из орудий своими же, русскими, кораблями. Следы разрушений я видела собственными глазами. Революционеры уничтожали контрреволюционеров и социально чуждый элемент. Социально чуждыми считаются все офицеры, от прапорщика до генерала, все, кто имел классный чин или хотя бы лавку. Людей расстреливали на городской свалке, увозили на стоявшие близ берега корабли и оттуда сбрасывали в море. Здесь с ужасом и ненавистью произносят фамилию Немичей. Это дети местного полицейского урядника, которые руководили расправой над людьми. Сейчас они арестованы. Год назад я бы не поверила в то, что рассказывают в Евпатории, но после того, как сама чудом избежала расстрела, верю. Сейчас такое время, что невольно веришь всему плохому. Брата нашей молочницы утопили в море только за то, что он ходил с георгиевской медалью. Раз носишь царскую награду, значит, контрреволюционер. Сердце мое замирает, когда думаю о родителях, прежде всего об отце. До всех этих потрясений он считался одним из самых богатых людей в городе, несмотря на то что наша семья никогда не выставляла своего богатства напоказ. Отец вырос в бедности и оттого знает цену деньгам. Он никогда не швырял их на ветер. В сравнении с другими богачами, мы жили довольно скромно. Эта скромность находила свое выражение и в том, что наша семья занимала только второй этаж нашего дома. Первый отец отвел под контору. Когда его спрашивали, не тесно ли нам на втором этаже, он отвечал: «Слава Всевышнему, у меня есть кабинет, у нас с женой есть комната, у мальчика есть комната, у девочек есть комната, у прислуги есть комната и есть где принимать гостей. Чего еще нужно? Я же не могу одновременно спать в двух комнатах».