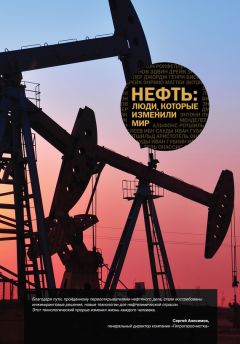Жиль Делёз - Кино
«Отсутствие образа», черный или белый экран обладают решающей важностью в современном кино. И причина здесь, как показал Ноэль Берч, в том, что они выполняют не просто функцию пунктуации, способствуя чему-то вроде нанизывания, а еще и вступают в диалектические отношения между образом и его отсутствием, наделяясь чисто структурным смыслом (в экспериментальном кино таков фильм Брэкхеджа «Отражения на черном» ) [562] . Этот новый смысл черного или белого экрана, как нам представляется, соответствует ранее проанализированным чертам: с одной стороны, имеется в виду уже не ассоциация образов и не способ их сочетания, а зазор между двумя образами; с другой же стороны, разрыв в последовательности образов является уже не рациональной купюрой, отмечающей конец одного из них или начало другого, а так называемой иррациональной купюрой, которая не принадлежит ни к одному из них и начинает иметь значение сама по себе. Гаррель сумел придать необыкновенную напряженность своим иррациональным купюрам, так что получалось, что у серии предшествовавших образов не было конца, а у серии последующих образов – начала, и обе серии сходились в направлении белого или черного экрана, как их общего предела. И более того, экран, используемый таким способом, способствовал возникновению вариаций: черный экран и недодержанный образ, глубокая чернота, на которой угадываются постепенно складывающиеся темные объемы; или же чернота, отмеченная фиксированной или подвижной светящейся точкой и разнообразными сочетаниями черноты и огня; белый экран и передержанный образ, образ млечный или составленный из снега, когда танцующие крупинки вот-вот образуют тело… И, наконец, в «Таинственном дитяти» потенции черноты и белизны зачастую сосредоточивает вспышка, рождающая образы. Во всех фильмах Гарреля черный или белый экран обладает уже не только структурным, но и генетическим значением: в своих вариациях или оттенках он достигает потенции сложения тел (а следовательно, тел изначальных, Мужчины, Женщины и Ребенка), потенции генезиса поз [563] . Возможно, это первый случай кино, образующего тело и подлинно созидательного: создать тела и тем самым вернуть нам веру в мир, возвратить нам рассудок… Сомнительно, что для этого достаточно лишь кинематографа; но если мир стал плохим кино, в которое мы больше не верим, то не задача ли подлинного кино – вернуть нам основания для веры в мир и в исчезающие тела? Ценой этого в кинематографе, и не только в нем, всегда было опасное приближение к безумию [564] .
В каком смысле Гаррель является одним из величайших современных режиссеров, чье влияние, увы, рискует проявиться лишь по прошествии длительного срока, уже наделив кино пока еще малоизученными потенциями? Вернемся к весьма стародавней проблеме, уже противопоставляющей театр и кино. Те, кто до глубины души любил театр, возражали, что кино всегда чего-то не хватает, а именно присутствия и притом присутствия тел, которое оставалось вотчиной театра: ведь кино демонстрирует нам лишь танцующие волны и частицы, с помощью которых оно симулирует тела. Когда же за эту проблему взялся Андре Базен, он задался вопросом, в какой форме существует иная, кинематографическая модальность присутствия, соперничающая с театральной и иногда, благодаря другим средствам, ее превосходящая [565] . Но если кино не дает и не может дать нам присутствия тел, то это, возможно, оттого, что оно ставит перед собой иную задачу: оно простирает над нами «экспериментальную ночь» или белое пространство, оно работает с «танцующими крупинками» и «светоносной пылью», оно поражает видимое фундаментальным недугом и вводит в мир саспенс, и эти недуг и саспенс противоречат всякой естественной перцепции. В итоге оно производит генезис «неизвестного тела», находящегося у нас за головой, словно немыслимое – в мысли: так происходит рождение видимого, пока еще ускользающего от зрения. Такие ответы, по-иному формулирующие проблему, дал Жан-Луи Шефер в книге «Обычный человек кино» . Они состоят в утверждении того, что объектом кино является не восстановление присутствия тел для перцепции и действия, а работа с первозданным генезисом тел, зависящим от белизны, черноты или серого (или даже других цветов); зависящим от «начала видимого, не являющегося пока ни фигурой, ни действием». Не таким ли был замысел Брессона, «Книга Бытия» ? Мы полагаем, что из того, разрозненные примеры чему Шефер ищет в истории кинематографа, у Дрейера и Куросавы, Гаррель извлекает не систематическое повторение пройденного, а обновляющее вдохновение, благодаря которому кино, совпадает если не с собственной сутью, то по крайней мере с одной из своих изначальных сущностей: это процесс сложения тел, когда за отправную точку берется нейтральный образ, белый или черный, заснеженный или освещенный вспышкой. Проблема, разумеется, состоит не в присутствии тел, а в вере, способной возвратить нам мир и тело, исходя из того, чтó сигнализирует об их отсутствии. Необходимо, чтобы камера изобретала движения или позиции, соответствующие генезису тел, и чтобы эти движения и позиции способствовали формальному сцеплению изначальных поз этих тел. Эти присущие Гаррелю качества кинематографа тел мы находим и в геометрии, в свою очередь, составляющей мир из точек, окружностей и полуокружностей. Вспомним, что ведь и у Сезанна возникновение мира связано с точкой, с плоскостью, с объемом, с сечением, но они выступают не в качестве абстракций, а как генезис и рождение. В «Провозвестнике» женщина зачастую представляет собой фиксированную, неподвижную и «отрицательную» точку, тогда как ребенок вращается вокруг женщины, деревьев и кровати, а мужчина движется полуокружностями, поддерживающими его отношения с женщиной и ребенком. А в «Детях в разладе» камера, поначалу точка, фиксированная на танце, принимается вращаться вокруг двух танцоров, то приближаясь, то удаляясь в соответствии с их каденцией и меняющимся освещением; в начале «Душевного шрама» тревеллинг по окружности дает возможность персонажу совершить полный оборот, причем камера остается фиксированной на нем, как если бы он перемещался боком и все же обнаруживал того же самого собеседника; а в фильме «Марии на память» Иосиф, пока Мария остается заточенной в клинике, вращается, разглядывая камеру, изменяющую свои позиции, как если бы она последовательно перемещалась на различных автомобилях по транспортной развилке. И каждый раз наблюдается особая конструкция прилегающего к телам пространства. То, что верно относительно трех фундаментальных тел, пригодно также и для другой троицы – для персонажей, режиссера и камеры: расположить их «в наилучшей из возможных поз, в том смысле, в каком о звездной конфигурации говорят, что она астрологически благоприятна» [566] .
Характерной чертой творчества Дуайона является ситуация тел, взятых в промежутке между двумя множествами, уловленными в двух исключающих друг друга множествах одновременно. Путь этот проторил Трюффо ( «Жюль и Джим», «Две англичанки и Континент» ), а Эсташ в фильме «Матушка и шлюха» сумел построить пространство, свойственное «не-выбору». Дуайон же обновляет и исследует это двойственное пространство. Персонаж-тело, ученик булочника из «Пальцев в голове» , муж из «Рыдающей женщины» , молодая женщина из «Пиратки» пребывают в состоянии колебания между двумя женщинами либо между женщиной и мужчиной, но главным образом между двумя группировками, двумя образами жизни, двумя множествами, присваивающими себе разные позы. Всегда можно сказать, что одно из двух множеств превалирует: случайная девушка препровождает булочника к его постоянной невесте, а веселая женщина отсылает мужчину к женщине рыдающей, как только начинает понимать, что сама она выступает только в роли мотива или предлога. Если же в «Пиратке» превалирование не кажется идеей, установленной с самого начала, то, согласно самим заявлениям Дуайона, оно представляет собой игру на повышение ставок, в результате которой предстоит вынести решение о жизни героини или эту жизнь оценить. И все же здесь имеется кое-что еще. Дело не в том, что персонажи проявляют нерешительность. Скорее, два множества действительно являются различными, но персонаж или, скорее, тело у персонажа не имеет никакой возможности выбора. Оно попадает в невозможную позу. Персонаж у Дуайона находится в ситуации неразличения отчетливо выделяемого: его нельзя назвать психологически нерешительным, ибо его характеризует как раз противоположное. Но превалирование не имеет для него никакого прока, ибо он обитает в собственном теле, как в зоне неразличимости. Кто такая матушка и кто такая шлюха? Даже если мы примем решение за него, это ничего не изменит. Его тело в любом случае сохранит отпечаток нерешительности, которую можно назвать не более чем прохождением жизни. Возможно, именно в этом кинематограф тела по сути своей противостоит кинематографу действия. Образ-действие предполагает некое пространство, в котором распределяются цели, препятствия, средства, субординации, главное и второстепенное, превалирование и отталкивание: вот оно, целое пространство, называемое годологическим. Но тело с самого начала попадает в совершенно иное пространство, где покрывают друг друга и друг с другом соперничают разрозненные множества, которые так и не могут организоваться по сенсомоторным схемам. Они прилагаются друг к другу во взаимоналожении перспектив, вследствие которого утрачиваются средства должного различения их отчетливого выделения и даже несовместимости. Таково пространство «до» действия; такое пространство посещает призрак ребенка или паяца или оба сразу. Это прегодологическое пространство, напоминающее fluctuatio animi, которое отсылает не к нерешительности духа, а к неразрешимости тела. Препятствие, в отличие от образа-действия, не поддается здесь определению в связи с целями и средствами, объединяющими множество, но подвергается дисперсии во «множестве способов присутствия в мире», способов принадлежать совершенно несовместимым и все-таки сосуществующим множествам [567] . Сила Дуайона как раз в том и состоит, что он превратил это прегодологическое пространство, это пространство взаимоналожений, в предмет, являющийся специальностью кинематографа тела. Он вводит в это пространство своих персонажей, он творит это пространство, где обнаруживается регрессия ( «Блудная дочь» ). И таким способом он не только разрушает образ-действие из классического кино, но еще и открывает «не-выбор» тела как немыслимое, изнанку или поворот духовного выбора. Об этом – диалог, которым обменивались персонажи фильма Годара «Спасайся, кто может» : «Ты выбираешь… Нет, я не выбираю… Ты выбираешь… Не выбираю…»