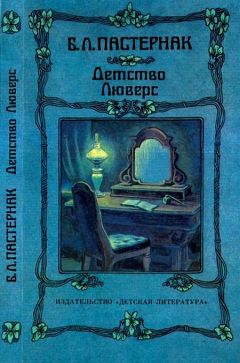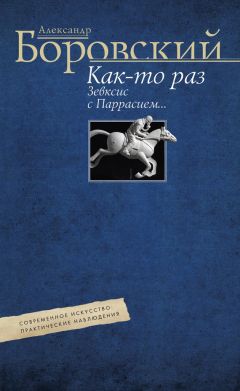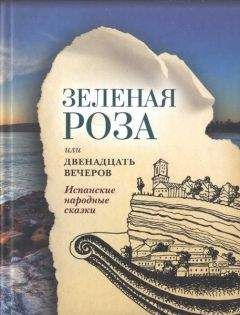Борис Пастернак - Люди и положения (сборник)
Исключением из всех были люди здоровые, те, которых принято называть талантливыми, те, которые наглухо заклепаны от всех остальных, и не так, как запечатывает эгоиста бессердечие, но так, как заливает лавой города, когда мимоходом, устремляясь к выходу, волна из себя вышедшего события, всепожирающая, разрушив все на своем пути, делает изъятие для маленького городка и вместо того, чтобы смести его, увековечивает римское захолустье, а также вместе с р<имским> з<ахолустьем> и себя и день своего гнева.
1916
История одной контроктавы
Первая часть
I
Богослужение окончилось. Пучащаяся волна чопорных робронд и оттопыренных оборок хлынула к выходу. Когда отбушевало платье последней прихожанки, под сводами стало холодно и бессмысленно пусто: внутренность бездушной церкви уподобилась стеклянному колоколу огромного воздушного насоса; через узкие клапаны долгих окон на спинки скамей и на завитки лепных украшений лились охлажденные потоки белого, обеспложенного полдня; их всасывало сюда пустотой огромного помещения; они были похожи на колонны, поваленные набок, и упирались всею массой своего света в деревянные бордюры широких сидений, чтобы не поскользнуться на каменном полу и не рухнуть на пыльные доски пюпитров.
А тем временем органист поддавал жару. Он дал волю своей машине в тот еще момент, когда вслед за брюзгливым визгом протяжно затормаживаемой каденции с гулким шарканьем повставали со своих мест крестьяне и горожанки и толпою направились к выходным дверям.
На пороге образовалась давка; навстречу к выходящим тронулся и пошел, сдвинувшись с насиженного места, горячий нагрев сухого майского вёдра. Толпа выходила на паперть с говором, какой сразу завязывается на воле, громким, сборным и людным; говор этот облит был солнцем, и его ожгло чириканьем птиц. Но и за таким говором, с яркой площади, через раскрытые двери, было слышно, как провожает прихожан радушный Кнауер. В толпе легко могли затереть или помять подголоски его ликующей инвенции, которые прыгали промеж расходящихся и кидались им на грудь, как резвящиеся лягавые, в полном исступлении от радости, что их так много при одном хозяине, – потому что органист имел обыкновение спускать всю свору бесчисленных своих регистров к концу службы. Постепенно церковь опустела. Но органист продолжал играть.
Всякая сила, отдавшись непланомерно быстрому росту, достигает, наконец, до того предела, где, осмотревшись по сторонам, она не видит уже никого возле себя. Мелодическая кантилена инвенции с минуты на минуту становилась лучше; она хорошела и наливалась зрелой силой, а когда сквозь нее потянуло одиночеством и свело ее по всему ее телу недомоганием силы, не находящей дела по себе, органист содрогнулся от того чувства, которое знакомо только артисту; он содрогнулся от того свойства́, которое существовало в этот миг между ним и кантиленой, от смутной догадки, что она знает его так же хорошо, как и он ее; и его влекло к ней влечением равного к равному, он гордился ею, не зная, что их чувства взаимны.
Органист играл, позабыв обо всем на свете. Одна инвенция сменялась другой. Случилась и такая, где вся звуковая знать верхов неприметно, друг за дружкой перебралась в басы. Тут, в баронии благородных октав, верх надо всем взяла одна, сильнейшая и благороднейшая, и завладела темою безраздельно. Тема приближалась к органному пункту, шумно развивая неслыханную, угрожающую скорость. Она благополучно пронеслась мимо последнего звена секвенции; от доминанты ее отделяло несколько шагов, как вдруг вся инвенция, – инвенция целиком, сразу в одно мгновение ока непоправимо катастрофически осиротела, словно со всех этих звуков одновременно посшибали шапки или сами они, всею толпой пообнажали головы; когда, на рискованнейшем повороте одного басового предложения, орган отказал двум клавишам в повиновении и из грандиозного бастиона труб и клапанов рванулся какой-то нечеловеческий крик, нечеловеческий оттого, что он казался принадлежащим человеку.
Этот необъяснимый вопль был, впрочем, скоро покрыт и замят иными звуками; и хотя из-под свихнувшегося клавиша нельзя было уже извлечь ничего, кроме стука деревяшки об деревяшку, органист мужественно снес свое лишение. И так же, как не дал органист оторвать себя от мануали получасом раньше своей жене, так точно и сейчас его не могло остановить в его излияниях неповиновение какого-то клавиша. А получасом раньше жена его, зайдя в пустую церковь через боковой вход, громко через всю церковь прокричала ему на галерею, что Аугуста, сестра его и ее невестка, – здесь, что она приехала уже, и хорошо бы ему сойти к ней; она тут в церковном саду сейчас и ждет его, она хочет поскорей увидеть маленького Готлиба, а Кнауер зачем-то прихватил мальчика с собой, и ребенок, наверное, проголодался; что если Кнауер останется играть, пусть бы он мальчика по крайности ей сдал, и они бы тогда с Аугустой домой пошли, а так… и чем, собственно, ребенок виноват, что отец…
– Готлиба здесь нет, – отрезал, не оборачиваясь, Кнауер. – Он вертелся тут – а теперь не знаю, где – он, наверное, у Поккеннарбов – я видел его вместе с Терезой.
– Опять эти пономарята, Кнауер, сколько раз!..
– Не слышу. Ступай домой, Дортхен. Я ничего не слышу.
Столько же внимания Кнауер уделил и покалеченному клавишу. Он перенес свой уход за звуками с басов в средние октавы, где несколько заключительных аккордов вернули ему, наконец, самообладание и спокойствие. Затем он поднялся с сидения, запер мануаль на ключ и, опустив раздувальщика Зеебальда домой, прошел во внутреннее помещение органного корпуса, чтобы на месте исследовать повреждение вентилей Gis и Ais.
II
Был вечер Троицына дня. В малоосвещенных частях города, как слова, произнесенные ровным голосом среди полнейшей тишины, со светлеющего неба срывались краткие, до черноты стесненные и сжатые линии коньков, стрельчатых карнизов, свесов, подзоров и прочих чудес средневекового зодчества, закопченного сумраком и стариной. Черные края их лихорадило от прикосновения небесного озера, в котором, тая и питая его глубины темным холодком, плавало два куска колотого льда: две крупных обтаивающих звезды, переполнявших через и без того полное колыханной светлости небо. И черные края гребней и стрех бросало в тонкий озноб от близости таких ключей, в озноб тем более резкий, что не было таких закруглений и таких выемок в строе кровель, до которых не добирался бы, доставая и прощупывая их – зыблящийся наплыв этой бледной, неосевшей ночи.
В этих частях было тихо, и тишина действовала чудным, возбуждающим образом на небо; оно, настораживаясь и вздрагивая, прислушивалось к чему-то издалека. Но стоило появиться трактирному фонарю в купе садовых каштанов, как тотчас же мутные его лучи зажигали целый муравейник шелеста вокруг; и муравейник этот, кучась, становился вдруг муравейником сонных и скучных с лов, когда, раздвигая садовые с т улья и не дожевав своих речей, занесенных с улицы, вокруг столов рассаживались домовитые жители Ансбаха со своими чадами и домочадцами. Тогда, распростав заскорузлые сучья каштанов, небо нагибалось к беседующим; оно свешивалось на кончиках веток к самым скатертям, гибкое и мускулистое, как гимнаст, смуглое, покрывшееся оливковым загаром от присутствия горящих там и сям садовых фонарей. И мимоходом задетые им пирамидальные соцветия изредка роняли отдельные цветы со своих стоячих горок; лепестки эти упадали в кружки с пивом и, кружась, успокаивались, наконец, в кольчатом кружеве пивной пены на поверхности, изошедшей сплетением петель и похожей на вытекший бычий глаз. А на холщовые скатерти ночь швыряла целые пригоршни жуков, ночных мушек и мотылей и пригоршнями жирного кофейного семени, с сухим стуком, как об раскаленные стенки жаровни, разбивались рои жесткокрылых о стенки фонарей. Как в казане жаровни, богатой, полновесною гущей сыпались, крушась, речи в садах, где словно кто мешал и поворашивал их железным совком, руша и пересыпая их с глухим снотворным звоном.
Здесь за столами только и говорили, что о несчастии у Кнауеров, – и у людей охота пропадала веселиться, лишь только об этом заходила речь. Лавочники и цеховые, с женами и детьми, признав однажды, что праздник испорчен уже этим, мгновенно весь город облетевшим известием, исхищрялись в старании испортить друг другу последний хотя бы остаток праздничного расположения духа, раз уж в угоду лицемерной участливости каждому из них пришлось отказаться от своих праздничных повадок. И они надоедали друг другу повторяющимися пересудами о том, может ли такая беда стрястись над всяким; поделом или нет посетил Господь заносчивого органиста, и если поделом, то не угодней ли Создателю они, эти простые, и в этот вечер простоту свою удовлетворенно признавшие души. Чутьем домашних животных чуяли они, что праздник св. Троицы, – праздник их сословия, что грузные и узловатые своды каштановых деревьев – сословная их сень, и что пиво, изошедшее сомкнутыми петлями и кольцами и похожее на вытекший бычий глаз, – их сословный напиток. И так как именно в этот день и как раз на общей почве родного города был наказан Провидением чуждавшийся их органист – не еще где-нибудь и не в иной какой день, – то им казалось всем, что он не случайно и с умыслом наказан Провидением в их присутствии; что они призваны всем своим присутствием судить Кнауера и осудить. И они осудили его, присудив органиста к тому, что произошло уже и без их вмешательства, несколькими часами раньше, в этот мирный и незаносящийся теплый и, следовательно, сословный их день святой Троицы. Весь город только и говорил, что об органисте. И когда Юлий Розариус на возвратном пути из Лоллара, позднею ночью, при проезде через Старые графские ворота, не сходя с экипажа, спросил по давнишней своей привычке сторожа у этих ворот, нет ли чего нового в городе, он услышал в ответ приблизительно следующее. Кнауер, органист, насмерть задавил собственного своего ребенка; говорят, это случилось во время бешеных его экстемпорирований; ребенок забрел во внутреннее помещенье органа, и его придушило там боковым каким-то рычагом. Одному Богу известно, как это случилось. Не верится, чтобы это было возможно, и, однако, это так.