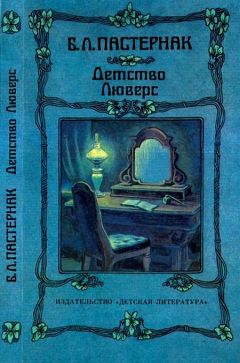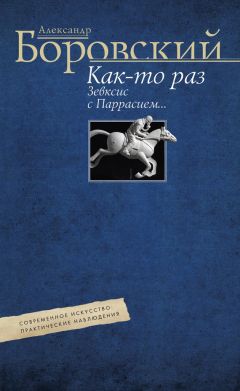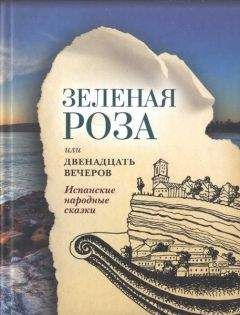Борис Пастернак - Люди и положения (сборник)
Просты и естественны многие, если не все, но они просты в той начальной степени, когда это дело их совести и любопытно только то, искренне ли они просты или притворно. Такая простота величина нетворческая и никакого отношенья к искусству не имеет. Мы же говорим о простоте идеальной и бесконечной. Такою простотой и был прост Верлен. По сравнению с естественностью Мюссе Верлен естествен непредвосхитимо и не сходя с места, он по-разговорному, сверхъестественно естествен, то есть он прост не для того, чтобы ему поверили, а для того, чтобы не помешать голосу жизни, рвущемуся из него.
Вот, собственно, и все, что мы себе позволили сказать по ограниченности времени и места.
1944
Афиногенов К трехлетию со дня смерти
Афиногенова окружала половина художественной Москвы. Среди друзей, знавших и наблюдавших его, я на довольно близком расстоянии любовался им в последний год его жизни под Москвою, где мы тогда зимовали.
В нем было что-то идеальное. Он был высокого роста, строен, красиво двигался, и его высоко поднятая голова с чертами античной правильности как-то соответствовала красоте его внутреннего облика, сочетавшего в себе признаки чистоты и силы. Таков же был и его талант, юношески свежий, светлого, классического склада. Он писал для театра и, как все истинно драматическое, был в жизни подкупающе естествен. В противоположность писателям, изъясняющимся темно и неповоротливо, он с умом и дельно говорил о вещах, представляющих интерес и значение. Он ставил себе ясные задачи и их легко и удачно разрешал.
Зимой 1940 – 41 года он читал нам свою чудесную «Машеньку», шедшую потом с таким шумным успехом в блестящем исполнении Марецкой. Ставили его «Вторые пути». Это были месяцы его торжества, не первого в счастливой и рано сложившейся деятельности Афиногенова. И вот грянула война.
Все пришло в движенье. Молодежь отправилась на фронт. Среди людей тыла Афиногенов еще больше, чем прежде, выделялся неподдельностью своего тона и поведенья. Он остался верен навыкам своего призванья и только удесятерил энергию.
С начала войны он работал в Совинформбюро, куда уезжал на целый день, а когда возвращался, урывками и ночами, когда каждый на его месте свалился бы от усталости, писал «Накануне» – пьесу, которой суждено было стать его предсмертным произведением. Хотя в ее положеньях нет ничего открыто биографического, она мне кажется списанной с натуры, с того места, где ее создавали.
Тяжело и сонно шла к концу холодная октябрьская ночь. Перед рассветом вверх по стеклянной террасе по лесистому склону поднимался из оврага туман. Вдали над Москвою, размазывая облака дыма и дождевые тучи, плевало кровью зарево продолжающегося и еще не кончившегося вражеского налета. В кресте прожекторных снопов высоко над домом среди зенитных разрывов белым червячком извивался какой-нибудь «мессершмитт». Это было не только небо ночных работ Афиногенова, но и небо его пьесы, на которое в воображении он переносил все, что успевал обнять душою, настигнуть и осветить. Поразительную эту вещь он нам читал в ночь такого налета.
Афиногенов был цельным человеком с волей и характером и никогда не поддавался унынию. Наши первые военные испытанья не обескураживали его. Уверенность его в нашей победе была велика. Это невольно вспоминаешь теперь, когда его предсказанья сбываются в такой дословности.
Когда в глушь эвакуации пришло известие о его гибели от авиабомбы, этому отказались верить, – так не вязалась идея смерти с тем олицетворением жизненности и больших надежд и обещаний, каким был Афиногенов. А я увидел погруженные во тьму дома и улицы, кружащего в высоте воздушного разбойника и глубоко внизу под ним молодую, счастливую судьбу, слишком богатую, чтобы остаться незамеченной, яркую и отовсюду видную, как незатемненное окно и как нечаянное нарушение светомаскировки.
1944
Новый перевод «Отелло» Шекспира
Изменяется жизнь, меняется и понимание, и драма ревности, с такою бурей и яростью разыгравшаяся в трагедии «Отелло», уже не кажется нам ее единственным, хотя и остается ее главным содержанием. Другая более глубокая коллизия заслоняет ее в наших нынешних глазах.
У Отелло и Дездемоны все без примеси настоящее. Когда их полнота и правда сталкиваются с поддельным и выдуманным миром Яго, они погибают от избытка своей подлинности; от своего внутреннего богатства.
Вместо Яго-злодея можно было бы себе представить другого Яго, который действительно был бы тем нелицемерным доброжелателем, каким он себя изображает. И все равно он был бы проклятьем Дездемоны и Отелло и орудьем их гибели. Важно не то, что Яго – клеветник и преступник, а то, что он гаситель жизни, что по соседству с полыхающим горнилом самобытности он угрожающе бесплоден и бездарен.
Оттого нет пределов измышленьям и козням Яго. У него нет ничего своего, он ничем не связан в своих действиях, он пользуется неограниченною свободой. Между тем Отелло и Дездемона не распоряжаются собой. Они скованы своей недвусмысленной сущностью и покорны ее законам, они несвободны.
Сцена с «Ивушкой», которая приводится ниже, одним только явлением, обычно выпускаемым, отделена от последней сцены удушения Дездемоны в финале. Отелло окончательно уверовал в мнимую виновность Дездемоны, осудил ее и решил задушить в тот же вечер в постели, когда она ляжет спать. Он это задумал не с целью мщенья, а для того, чтобы спасти душу Дездемоны, потому что он верит, что его расправа с телом Дездемоны на этом свете избавит ее дух от небесного воздаянья на том.
Вечер. В замке были гости и разошлись. Эмилия помогает Дездемоне раздеваться. Несмотря на дурные предчувствия, Дездемона не подозревает, что жить ей осталось минуты, и мурлычет «Ивушку», мотив из старинной баллады, томивший ее весь вечер и вдруг припомнившийся. Сцена с песнью написана для того, чтобы дать понятие о мере неведенья героини на пороге ее жертвенного закланья.
Старые русские переводы Шекспира (это в особенности относится к Гербелевскому изданию) в большинстве превосходны. Они делались преимущественно во вторую половину прошлого века, когда техническая культура стиха упала у нас по сравнению с пушкинским временем. Дилетантская широта, с которой они поневоле предприняты, предохранила их авторов от мелочного педантизма и увлеченья формальными пустяками. Так как им приходилось выбирать и чем-то жертвовать, они уловили и передали в Шекспире главное: Шекспира-поэта, Шекспира-драматурга.
Русские символисты снова возродили премудрости ритма и хорошей рифмовки. Новейшие переводчики так же старательно заняты внешними средствами выражения подлинника, как прежние заботились о сохранении его общего смысла. Современные переводы Шекспира, из которых лучшие принадлежат Кузмину, Лозинскому, Зенкевичу и Радловой, ближе, чем это делалось раньше, знакомят со словесным составом шекспировских текстов, с его лексиконом. Однако дословные переводы всегда бывают тяжелы и в редких случаях понятны. Идея буквального перевода представляет хроническое, постоянно изживаемое и постоянно возвращающееся заблужденье.
В своих работах мы пошли по стопам старых переводчиков, но стараемся уйти еще дальше в преследованьи живости, естественности и того, что называется реализмом.
Мы отнюдь не льстим себя иллюзией, будто каждая частность нашего труда успешно заменяет прежние примеры. Мы ни с кем не соперничаем отдельными строчками, мы спорим целыми построеньями, и в их выполнении, наряду с верностью великому подлиннику, входим во все большее подчиненье своей собственной системе речи и тысяче других секретов, половины которых мы не в состоянии осознать и которые с годами становятся все многочисленнее и строже.
1944
Шопен
1
Легко быть реалистом в живописи, искусстве, зрительно обращенном к внешнему миру. Но что значит, реализм в музыке? Нигде условность и уклончивость не прощаются так, как в ней, ни одна область творчества не овеяна так духом романтизма, этого всегда удающегося, потому что ничем не проверяемого, начала произвольности. И, однако, и тут все зиждется на исключениях. Их множество, и они составляют историю музыки. Есть, однако, еще исключения из исключений. Их два – Бах и Шопен.
Эти главные столпы и создатели инструментальной музыки не кажутся нам героями вымысла, фантастическими фигурами. Это – олицетворенные достоверности в своем собственном платье. Их музыка изобилует подробностями и производит впечатление летописи их жизни. Действительность больше, чем у кого-либо другого, проступает у них наружу сквозь звук.
Говоря о реализме в музыке, мы вовсе не имеем в виду иллюстративного начала музыки, оперной или программной. Речь совсем об ином.
Везде, в любом искусстве, реализм представляет, по-видимому, не отдельное направление, но составляет особый градус искусства, высшую ступень авторской точности. Реализм есть, вероятно, та решающая мера творческой детализации, которой от художника не требуют ни общие правила эстетики, ни современные ему слушатели и зрители. Именно здесь останавливается всегда искусство романтизма и этим удовлетворяется. Как мало нужно для его процветания! В его распоряжении ходульный пафос, ложная глубина и наигранная умильность, – все формы искусственности к его услугам.