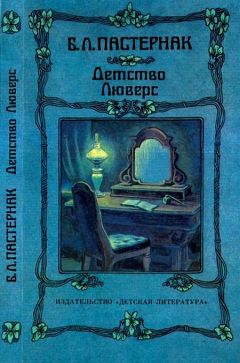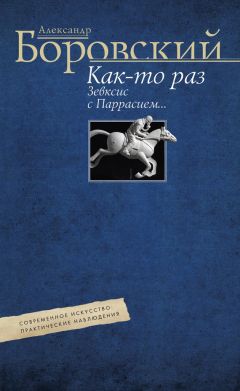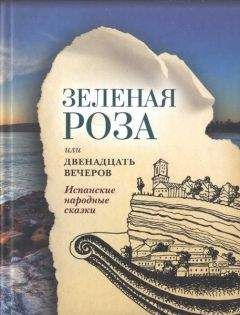Борис Пастернак - Люди и положения (сборник)
Итак, во-первых, мышцы футуристических сокращений никак не сродни мускулатуре современной действительности. Нервическая, на взгляд, техника футуризма говорит скорее о нервности покушения на действительность, совершаемого Лирикой. Вечность, быть может, – опаснейший из мятежников. Ее действия порывисты, настойчивы, молниеносны.
3
Не ангел скромности, далее, бес точности вырывает у нас и второе признание: – Футурист – новосел Будущего, нового, неведомого.
С легкой руки символистов в новейшей литературе водворился конфузный тон глубокомысленнейших обещаний по предметам, вне лирики лежащим. Обещания эти тотчас же по их произнесении всеми забывались: благодетелями и облагодетельствованными. Они не сдерживались никогда потому, что глубокомыслие их переступало все границы осуществимости в трех измерениях.
Никакие силы не заставят нас, хотя бы на словах, взяться за… приготовление истории к завтрашнему дню. Тем менее отважимся мы покуситься на такое дело по доброй воле! В искусстве видим мы своеобразное extemporale [46] , задача коего заключается в том единственно, чтобы оно было исполнено блестяще.
Среди предметов, доступных невооруженному глазу, глазу вооруженных, предстал ныне призрак Истории, страшный одним уже тем, что видимость его – необычайна и противоречит собственной его природе.
Мы не желаем убаюкивать свое сознание жалкими и туманными обобщениями. Не надо обманываться; действительность разлагается. Разлагаясь, она собирается у двух противоположных полюсов: Лирики и Истории. Оба равно априорны и абсолютны.
Батальоны героев, все ли чтут в вас сегодня батальон духовидцев, всем ли ведомо, что ослепительные снопы «последних известий» – это – снопы той разрушительной тяги, которою чревато магнитное поле подвига – поле сражения: поле вторжения Истории в Жизнь. Герои грозного ее a priori! [47] Нечеловеческое лежит в основе вашей человечности. Жизнь и смерть, восторг и страдание – ложные эти наклонности особи – отброшены. Герои отречения, в блистательном единодушии – признали вы состояния эти светотенью самой истории и вняли сокрушительному ее внушению.
Пред духовидцами ль нам лицемерить? Нет, ни за что не оскорбим мы их недозволенным к ним приближением. Ни даже с точностью до одной стомиллионной, с точностью, позволительною любому из нас, в стомиллионном нашем отечестве.
Не тень застенчивости, бес точности внушил нам это признание.
Годы следовали, коснея в своей череде, как бы по привычке. Не по рассеянности ли? Кто знал их в лицо, да и они, различали ли они чьи-либо лица?
И вот на исходе одного из них, 1914-го по счету, вы, смельчаки, вы одни и никто другой, разбудили их криком неслыханным. В огне и дыме явился он вам, и вам одним лишь, демон времени. Вы и только вы обратите его в новую неволю. Мы же не притронемся ко времени, как и не трогали мы его никогда. Но между нами и вами, солдаты абсолютной истории, – миллионы поклонников обоюдных приближений. Они заселят отвоеванную вами новую эру, но семейные и холостые, влюбляющиеся и разводящиеся, – со всей таинственностью эгоизма и во всем великолепии жизни пожелают они совершить этот новый переезд.
И скажите же теперь: как обойтись без одиноких упаковщиков, без укладчиков со своеобразным душевным складом, все помыслы которых были постоянно направлены на то единственно, как должна сложиться жизнь, чтобы перенесло ее сердце лирика, это вместилище переносного смысла, со знаком черного бокала и с надписью: «Осторожно. Верх».
1915
Николай Асеев. «Оксана». Стихи 1912 – 1916 годов
В книгу вошли стихотворения из «Ночной флейты», «Зора», «Леторея», «Ой, конин дан окейн» и тринадцать печатающихся впервые.
За «Ночной флейтой» туманились книги родственного рода; книга с этим фоном сливалась. За «Зором» расстилались пространства книг родственного рода; книга на этом фоне горела и от фона властно отвлекала.
За «Летореем» тлел, вспыхивал и не погасал «Зор», книга такого фона не осиливала; от этого фона книги не спасали и стихотворения, подобные «Пожару на барже», и тем, которые озаглавлены: «Выбито на ветре», «И последнее морю».
Книга предназначалась автором для имевших когда-нибудь родиться у него: досады и сожаления; двух чувств перворазрядного поэта; о том, чего бы никогда на фоне «Зора» не сделал второразрядный поэт; по бессилию его такой фон развернуть и от такого фона отвернуться.
Перворазрядный поэт оглядывается на шум написанной книги и видит, страницы смысла ее распаялись, наводненные теплом, и текут через красящей краской, ропчущим ропотом, невменяемостью вменения во смысл.
Как быть ему? Не вечно ж оглядываться! А она будет вечно шуметь позади. Как прожить ему хоть день без поглощенных ею вчера великолепий?
Остается одно: назначить себе и в будущем такой праздник. Остается одно: моменты былого медиумизма обратить в моменты свободы, формально ими овладев.
Остается одно: мастерство.
Так, предназначаемые для чувств сожаления и досады, пишутся перворазрядными поэтами книги, подобные «Леторею». И так упраздняются, аннигилируются они затем.
В одно прекрасное утро на квартиру такой книги является поверенный автора, просвещенный сарт «Ой, конин дан окейн».
Как, вы осмеливаетесь еще существовать? – обращается он к провинившейся книге.
Книга безмолвствует.
На какие средства вообще-то прозябаете вы?
–
На средства авторского темперамента?
Но они полностью при мне, и я не вижу их в вашей кассе.
На средства его идеальной выразительности?
Но они полностью при мне, и я не вижу их в вашей кассе.
На средства тех прочих элементов, о которых речь будет ниже, которые полностью со мной и которых я не вижу в вашей кассе?..
Но вполне очевидно, что, сверстанная Асеевым и Петниковым, о первом вы имеете престранное понятье.
...Николай Асеев. Оксана. Стихи 1912 – 1916 гг.
Он сложен и замысловат; это – не важно. Он талантлив и творчески безупречен; – важно это.
Приемы его разнообразны тем разнообразием, которое пугает понимающего и представляет опасность для поэта. Каков же должен быть лирический темперамент автора, если над такою пестротой приемов он берет верх; если, невзирая на разнокачественность письма, автор – не эклектик. Вот несколько свидетельств о нем: «Скачки», «Проклятие Москве», ст(ихотворения) 24, 25, 26, 28, 29, 46, 50, конец 47-го; вот свидетельства высочайшей марки, вещи совершенно неподражаемые, насыщенные, как камеры – паром, давлением вдохновенья: «Песня Ондрия», «Гремль 1914» и «Тунь».
Во всех этих случаях темперамент автора ведет себя одинаково идеально: темпераментом поэта врывается он в стихию мечтательности, темпераментом поэта рвется дальше, эту стихию за собой увлекая; темпераментом поэта параболически покидает ее, от нее отброшенный, оторвавшийся, ее потерявший; ни на минуту в бешенстве и замешательстве своего собственного появления на пороге своей собственной, по-человечески ахнувшей души не став: ни темпераментом влюбленного, ни темпераментом меланхолика, ни еще каким.
Приемы автора разнообразны.
Вот, к примеру, пять наудачу выхваченных примерных групп, дающих понятие о пяти родоначально отличных мирах выражения.
I. Строчки, как:
Синева онемела пусто,
Как в глазах сумасшедших мука…
Или ветер, сквозной и зябкий,
Надувающий болью уши
Как жидовские треплет тряпки…
А вечер в шелках раздушенных
Кокетлив, невинен и южен…
Жизнь осыпается пачками
Рублей на осеннем свете…
Поведу паровоз на Мохнач
Сквозь колосьев сушеный шелест.
Я слышу этот визг и лязг
С травою в шуме вставшей об локоть.
Стихотворение: «Проклятие Москве».
II. То же стихотворение, «Скачки».
III.
Проломаю сквозь вечер мартовский
Млечный Путь, наведенный известью…
Я пучком телеграфных проволок
От Арктура к Большой Медведице…
Стихотворения: «Безумная песня», «Фантасмагория», «Сомнамбулы».
IV.
Захохотал холодный лес,
Шатались ветви, выли дубы…
А уж труба второй войны
Запела жалобно и злобно…
Но то рассерженный грузин,
Осиную скосивши талью,
На небо синее грозил,
Светло отплевываясь сталью…
Лев, лицом обращенный к звездам,
Унесенные пляской олени,
На него ополчившийся ростом
Слон, лазури согнувший колени.
Троица! Пляшут гневливо холмы
Там, где истлели ковыль и калмык…
V. Стихотворения: «Царь играет на ветряных гуслях»; две строфы, начинающиеся словами: «Когда старейшины молчат»; стихотворение «Михаил Лермонтов», начало и, в особенности, – конец. «Песня Ондрия», «Гремль 1914», «Тунь».
Из этих пяти групп, дающих образцы поэтических форм равно высокого достоинства, три первых мало чем отличают автора от лучших поэтов времени; разве только свежестью и ясностью их, напоенных вещественностью впечатления содержаний. Зато две последние группы ставят автора совсем особняком среди современников. Потому что у нас имеются вполне удовлетворительные примеры: I) поэзии, пользующейся нервной отчетливостью самих в поэму преобразующихся ощущений, II) поэзии, получающей темповый толчок от темпа реального эпизода, III) поэзии, дышащей болезнью понятия о мнимой материи, поэзии легендарно материалистической, – феерически реальной.