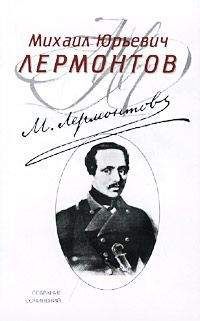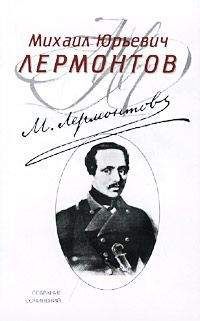Ник Хоакин - Портрет художника-филиппинца
Пит. Ну вот, Эдди, у тебя готова боевая статья!
Эдди. Не знаю, не знаю…
Пит. А что тебе не нравится?
Эдди. Это, как говорит Кора, старье. Вышло из моды.
Битой. Разве может любовь к ближнему выйти из моды?
Пит. Дорогой мой, надо различать: делать дело и писать об этом деле — вещи разные. Мы здесь все писатели, и это наше право — писать о разных вещах, вроде любви к ближнему или сплочении пролетариата. Но манера письма — увы! — может выйти из моды. Посмотри на Эдди. Он утверждает, будто ему надоело писать о классовом сознании, однако это еще не означает, что классовое сознание ему надоело. Или надоело?
Эдди. О нет, нет. Я так люблю низшие классы!
Кора. Если бы только они пользовались зубной пастой «Колинос»…
Битой. И каждый день принимали ванну…
Пит. И носили бы пиджак и галстук — как наш Эдди…
Эдди. И могли бы рассуждать о марксизме и троцкизме — как наш Пит…
Кора. Мальчики, мальчики, хватит препираться.
Эдди. Кора…
Кора. Да, дорогой?
Эдди. Заткнись.
Кора. Именно это мне нравится в Эдди. Он умеет обращаться с простыми людьми. Но если ты так уж любишь простых людей, Эдди, то ведь их очень много и там, где мы работаем. Они внизу, у машин, и они там каждый день, в том же здании, что и мы. Они неучены, от них пахнет потом, едят они одну рыбу. Удивляюсь я на вас. Вот они, пролетарии, прямо у вас под носом, каждый день, но я что-то не видела, чтобы кто-нибудь из вас спустился вниз и сплотил их. Или побратался с ними. Собственно говоря, я заметила, что вы, наоборот, их избегаете. Вы всегда норовите послать кого-нибудь вместо себя. Но почему? Разве они не говорят на том же языке, что и мы? Или вы боитесь?
Пит. Кора, Кора, ты неверно судишь о нас. Это вовсе не страх — просто благоговение и уважение.
Битой. Кроме того, куда проще любить пролетариев на расстоянии.
Пит. На безопасном удалении.
Кора. От запаха пота и рыбы.
Эдди. Этим и заканчивается наше классовое сознание. Просто болтовня с безопасного литературного расстояния. Модная литературная болтовня…
Кора. Другими словами…
Кора и Битой (вместе). Просто болтовня.
Кора. Точка.
Эдди. Помните, как мы делили весь мир на дураков и способных молодых людей? Мы были способными молодыми людьми, а к дуракам относили всех тех невежд и простофиль, которые не читали мистера Синклера Льюиса, мистера Менкена и великолепного мистера Кэйбла.
Кора. А потом вдруг эти невежды стали пролетариями.
Пит. Правильно. А все прочие тут же стали ужасными буржуями и реакционерами.
Эдди. А мы, конечно, сделались поборниками пролетариата, мы были на острие прогресса, мы были самой революцией! Мы знали все о картелях, забастовках и диалектике!
Кора. И пусть мы не поехали сражаться в Испанию, но мы же ездили на конгрессы писателей в Нью-Йорк.
Эдди. А теперь разделили всех на фашистов и людей доброй воли.
Пит. Сами-то мы люди доброй воли.
Кора. И розовый цвет вышел из моды. Мы одеваемся теперь в бело-красно-синее[7]. Быть попутчиком уже не модно. И мы все ораторствуем на торжествах по случаю Четвертого июля[8].
Эдди. Но одно о нас можно сказать твердо: когда речь заходит о литературной моде, тут мы всегда в первых рядах…
Пит. Всегда на поле битвы…
Кора. И держим нос по ветру.
Битой. Хотел бы я знать, какая мода придет завтра?
Кора. Надеюсь, не любовь к этим столь вежливым и героическим японцам — поборникам достоинства восточных народов.
Битой. Ну нет, это невозможно!
Кора. Потому что морские пехотинцы не допустят их?
Битой. Потому что наша мода всегда приходит из Америки — а ведь немыслимо представить себе, чтобы товарищи в Америке ввели в моду любовь к япошкам! Будет война, друзья мои, будет война! И горе Культуре, горе Искусству!
Эдди. К черту Культуру! К черту Искусство! Хорошо бы война разразилась завтра!
Пит. Хорошо бы она разразилась сегодня!
Эдди. По-настоящему большая, кровавая, всесокрушающая война, которая все перевернет!
Пит. И чем больше, тем лучше!
Кора. Друзья мои, не смешите меня.
Пит. Эдди, мы ее смешим.
Эдди (фальцетом). Мы Поллианна, Веселая Девица!
Пит и Эдди (взявшись за руки, выступают вперед)
Мы веселые ребята,
Мы вас будем веселить!
Кора (сухо). Ха-ха-ха!
Эдди. Ага, мы снова рассмешили ее.
Кора. О, уж вы смешны дальше некуда. Молите даже о войне — лишь бы не смотреть на эту картину.
Пит. Эдди, разве мы боимся смотреть на картину?
Кора. Боитесь.
Эдди (серьезно). К черту картину! Кому это надо — беспокоиться о какой-то картине, когда вот-вот грянет большая война? Время, в которое мы живем, слишком значительно, чтобы тратить его на прекрасные видения поэтов и художников! Там, в Европе, вот в этот самый миг умирают тысячи молодых людей! Под угрозой будущее демократии, будущее всего человечества! А ты хочешь, чтобы мы здесь сражались с какой-то жалкой картиной какого-то одного жалкого человека! Подумай, что происходит сейчас в Англии! Подумай, что происходит сейчас в Китае! (Умолкает.)
Кора. Продолжай.
Эдди. Продолжать что?
Кора. Продолжай придумывать причины, лишь бы не смотреть на картину. Продолжай оправдывать бегство от нее.
Пит. Минутку, минутку! С чего бы нам бояться этой картины?
Кора. А с того, что это произведение искусства, и перед ним мы чувствуем свою, фальшь и бессилие.
Пит. Я не чувствую ничего подобного!
Кора. Не чувствуешь?
Все молча смотрят на Портрет.
Пит. Нет… я не чувствую ничего подобного. Да и кто такой этот дон Лоренсо, чтобы мне бояться его картины?
Кора. Он творец, а мы халтурщики. Он — ангел-судия, пришедший из Прошлого.
Пит. Ну а я вот — Настоящее и не признаю суда Прошлого! Я сам могу судить Прошлое! Если со мной что-то не так, винить в этом следует как раз Прошлое! Боюсь! Да кто его боится? Вот я стою здесь и спрашиваю вас, дон Лоренсо: кто вы такой и что вы такого сделали, что считаете себя вправе судить меня?
Битой. Пит, Пит, он сделал все что мог! Он писал, рисовал, сплачивал, сражался во время революции.
Пит. Ну и что? А как насчет того, что было после? У него хватило духу продолжать борьбу? Или хотя бы продолжать рисовать? Его лучшие творения созданы до революции. Что он создал после нее? Только вот эту картину — да и ту написал совсем недавно. А что было в промежутке? Что он делал все эти годы? (Смотрит на других, ему никто не отвечает, и он улыбается.) Вот видите? Но Битой может ответить, Битой знает.
Битой. Что ты хочешь сказать, Пит?
Пит. Валяй, расскажи нам об этих сборищах. Сборищах стариков, ветеранов, обломков великого Прошлого. Ты знаешь, ты здесь бывал. Как вы называли эти сборища?
Битой. Тертулии.
Пит. Во-во! Тертулии! И что они здесь делали, эти старики?
Битой. Ну, они… они говорили.
Пит. О чем? О, не отвечай. Я и сам могу догадаться. Они говорили о Прошлом. Говорили о своих студенческих годах в Маниле, Мадриде и в Париже. Вспоминали старые ссоры и разногласия среди патриотов. И, конечно, в тоне приглушенного восхищения — о своем Генерале!
Битой. Правильно. Но они говорили также о поэзии, об искусстве и театре, о политике и религии.
Пит. О, я так и вижу их, этих жалких стариков. Они собирались в этой комнате, утешали друг друга, попивали шоколад и снова сражались в битве при Балинтаваке, при Сан-Хуане, на перевале Тила! Им так хотелось вновь почувствовать себя важными персонами — вот они и напоминали друг другу, сколь храбры были во время оно. Заброшенные и забытые, они ненавидели Настоящее. Они считали его грубым, вульгарным, заслуживающим проклятия. Разве не так, Битой?
Битой. Им многое не нравилось в Настоящем.
Пит. А больше всего не нравились люди, которые сейчас правят.
Битой. Да, они им не очень нравились.
Пит. Этим и кончилась революция! Этим и кончилась! Группки обиженных завистливых стариков собирались в пыльных книжных лавках, прогоревших аптеках, обветшалых домах вроде этого. Ты только посмотри на эту комнату — о чем она говорит? О неудаче! О поражении! О нищете! О ностальгии! И вот здесь они собирались, эти обиженные старики, чтобы вздыхать о Прошлом, проклинать Настоящее и тех, кто сейчас у власти! Но что произошло с этими старыми бойцами? Во время революции они были важными людьми, они были у власти. Тогда почему они потеряли власть? Почему их вышвырнули, почему их забыли? Потому что в конце концов их не хватило на то, чтобы справиться с Будущим! Потому что они пытались остановить время! О, это вечная история: сегодня революционеры, завтра реакционеры! И потому поднимаются новые люди. Новые люди отстранили их, люди помоложе и посмелее, которые не боялись проклятий, не боялись быть грубыми и вульгарными! Ты можешь назвать хоть одного видного деятеля революции, который удержался бы наверху в последующий период? Нет — их всех смело. И, может быть, к лучшему, что Рисаль, Бонифасио и Мабини[9] умерли молодыми. Ибо, кто знает, может быть, и они лишь пополнили бы ряды преданных забвению стариков, может, и они бы гнили в забвении и обиде, может, и они бы растратили остаток жизни, кочуя с одной тертулии на другую — попить шоколаду, посокрушаться. Как дон Лоренсо. Да, как этот великий дон Лоренсо! Посмотрите на него! Он растравлял себе сердце в безвестности и обиде. Ему нужно утешить гордыню, оправдать поражение — и что он делает? А он рисует себя настоящим героем! Энеем! Вот он здесь — в классическом одеянии, в классической позе, на фоне благородного классического пейзажа. Он целиком оторвался от родной земли, потому что родина отвергла его. И он помещает себя над грубым и вульгарным Настоящим — потому что Настоящее отказывается признать его значимость. Как он жалок! О, какая жалкая картина! Портрет художника, преданного забвению!