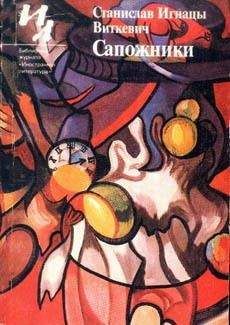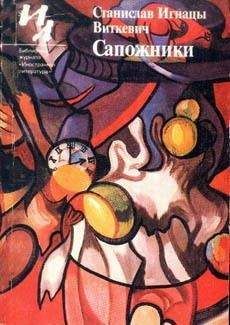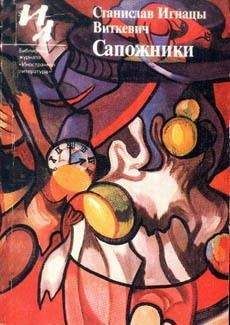Станислав Виткевич - Дюбал Вахазар и другие неэвклидовы драмы
С к у р в и. Ах так? Ну, тогда до свиданья. (Выходит, не оглядываясь.)
I I П о д м а с т е р ь е. Однако у этого мопсястого прокурора гениальное чувство формы: ушел как раз вовремя. И все-таки он слишком умен, чтоб быть сегодня кем-то: сегодня, чтобы чего-то добиться, как ни крути, а надо быть немного идиотом.
К н я г и н я. Ну а теперь приступим к нашим обычным, повседневным делам. Продолжайте работу — час еще не про́бил. Когда-нибудь я превращусь в вампирицу и выпушу из клеток всех монстров мира. Но он, большевизированный интеллигент, желая выполнить свою программу, сперва должен подавить всякое стихийное общественное движение. Он все рассует по полочкам, но при этом половине из вас головы свернет во имя надлежащих пропорций мира. Скурви — единственный, кто имеет влияние на лидера «Бравых Ребят» Гнэмбона Пучиморду, но он никогда не хотел это влияние использовать во имя абсолютного общественного лесеферизма, лесеализма и лесъебизма. (Садится на табуретку и начинает лекцию.) Итак, любезные мои сапожники: по духу вы мне даже ближе, чем механизированные, согласно Тейлору, фабрично-заводские пролетарии — в вас, представителях кустарных ремесел, еще жива первобытно-личностная тоска лесных и водяных зверей, которую мы, аристократы, абсолютно утратили вместе с интеллектом и даже самым примитивным, мужицким, так сказать, разумом. Что-то у меня сегодня не клеится, но, может, пройдет. (Откашливается — долго и весьма многозначительно.)
С а е т а н (нарочито, неискренне). И-эх! И-эх! Тока вы, сударынька, этим своим откашливанием — долгим и многозначительным, особо себя не утруждайте, потому как ничем оно вам не поможет! И-эх!
П о д м а с т е р ь я. Ха-ха! Гм, гм. Завсегда бы так! Так-то оно лучше! Ху-ху!
К н я г и н я (продолжает лекторским тоном). Цветы — те, что я вам сегодня принесла, — это желтые нарциссы. Видите — о! — вот у них пестики, а вот тычинки; оплодотворяются они так: когда насекомое заползает...
I П о д м а с т е р ь е. Да я ж это, Господи ты Боже мой, еще в начальной школе проходил! Но меня прямо любовный озноб прошиб, когда госпожа княгиня...
С а е т а н. И-эх! И-эх! И-эх!
I I П о д м а с т е р ь е. Оторваться не могу. Такая зловещая половая скорбь и такая жуткая половая безнадежность — прямо как в пожизненном заключении. И если б сейчас со мной что-нибудь эдакое, избави Боже, произошло, мне было б, наверное, так хорошо, что я бы потом до конца жизни выл от тоски по этому самому.
I П о д м а с т е р ь е. Умеете же вы, госпожа княгиня, даже в простом человеке разбередить, расковырять все эти кошмарные фибры рафинированной похоти... Ах! У меня аж все плывет перед глазами от этой сладкой и отвратительной муки... Изуверство — вот суть...
С а е т а н. Эй! Тише вы! Пусть в нашем смрадном житии святым сей дивный миг пребудет — всех нас, несчастных вшиварей, трагическая похоть сгубит! Я хотел бы жить как эфемер — кратко, но ярко, а она все тянется, эта бесконечная колбасина из дерьма, тянется за этот серый, нудный, можжевелово-кладбищенский горизонт безнадежно-бесплодного дня — туда, где подстерегает червивая, затхлая смерть. Тьфу ты пропасть, да в могильную бадью — или как там оно — все едино.
К н я г и н я (от восторга закатив глаза). Сбывается сон! Нашелся медиум для моего второго воплощения на этой земле. (Сапожникам.) Как бы я хотела облагородить вашу ненависть, преобразить зависть и ревность, ярость и неудовлетворенность жизнью в неукротимую творческую энергию гиперреконструкции — так это называется. Зародыши новой общественной жизни наверняка таятся в ваших душах, конечно же, ничего общего не имеющих с вашими потными, зловонными, заскорузлыми телами. Я хочу сосать муки вашего труда через трубочку, как комар пьет кровь гиппопотама — если такое вообще возможно, — чтоб их впитывали мои идейки, эти прелестные мотылечки, — о, когда-нибудь они обратятся в буйволов. Не социальные институты создают человека, а человек — социальные институты.
I П о д м а с т е р ь е. Тока без блефу, ясновельможная. Институты, они ведь выражают высшие поползновения, из них-то они, знать, и выкристаллизовываются, — а уж как этой функции не сполняют, то и хрен же с ними — понятно тебе, ландрыга рваная?
I I П о д м а с т е р ь е. Тихо ты — пущай ее допуста выболтается.
К н я г и н я. Да — позвольте мне хоть разок раскрыть настежь — иначе: нараспашку — мою изгвазданную, истерзанную душу! Итак, на чем бишь мы остановились? Ага — я хочу, чтоб ваша ненависть и злоба породили творческий экстаз. Как это сделать, сама не знаю, но мне подскажет интуиция, та самая женская интуиция, идущая из самого нутра...
С а е т а н (страдальчески). Оооох!.. И даже из некоторых наружных членов... ооох!
К н я г и н я. Но как обуздать вашу злобу? Хотя — известно: иногда люди друг дружку гладят, чтоб вызвать в другом бо́льшую страсть. Вы, Саетан, злитесь на меня, но в то же время от меня в восторге, как от существа безусловно высшего, чем вы: я знаю, как это мучительно! И если б сейчас я погладила вас по руке — вот так (гладит его) вы б еще больше разъярились — вы бы просто из кожи вон вылезли...
С а е т а н (отдергивает, скорее даже вырывает руку, как ошпаренный). Ох, стерва!!! (Подмастерьям.) Видали: вот он — высший класс сознательной извращенности! Хотел бы я быть таким же классово сознательным, как эта тварь — извращенно, по-женски — о, сакра ейная сучандра!
К н я г и н я (смеясь). Обожаю это ваше высшее сознание собственного убожества, это чувство щекочущей боли — оно разлизывает вас во вшивых слизней. Представьте только: если бы я прокурора Скурви, который желает меня до безумия, который весь как переполненный стакан, готовый расплескаться, представьте, Саетан, если бы я его так ласково, так сострадательно погладила, как бы он рассвирепел и обезумел... О, если б он мог быть один, как все вы трое...
Угрожающее движение троих Сапожников по направлению к Княгине.
С а е т а н (грозно). Руки прочь от нее, ребята!!
I П о д м а с т е р ь е. Да пошел ты, мастер, сам прочь!
I I П о д м а с т е р ь е. Хоть разок бы, да как следует!
К н я г и н я. А потом годков пятнадцать за решеточкой! Уж Скурви бы вас не пощадил. Нет уж — кыш! Терусь, фу!! Фердусенко, немедленно подайте мне английской соли.
Ф е р д у с е н к о подает соль в зеленом флаконе. Она нюхает и дает понюхать Сапожникам, которых это успокаивает, но увы, ненадолго.
Итак, вы видите: ваша агитация удается только потому, что эти между собой договориться не могут. Но если Скурви, высший сановник юстиции, у которой болезненная мания независимости, сумеет как следует подлизаться к организации «Бравые Ребята»...
С а е т а н (с болью, непостижимой прямо-таки ни для кого). И подумать только — мой отпрыск там у них — из-за этих паршивых денег — мой, мой собственный — у этих «Бравых Ребят», чтоб вся ихняя бравада скисла, чтоб ей пусто было, этой ихней удали молодецкой! О — хоть бы лопнуть, что ли, от этой адской боли — такого ж никакое нутро не стерпит. Грыжепупы вы грёбаные — уж и не знаю, как ругнуться — даже это дело у меня сегодня что-то не идет.
I П о д м а с т е р ь е. Тихо вы — пущай эта стерва, гуано ей в тетку, хоть раз до конца выскажется.
I I П о д м а с т е р ь е. До конца, до конца. (Дико рвется.)
К н я г и н я (как ни в чем не бывало). Так вот, все дело только в том, что вы не умеете организовываться — из опасения, что возникнет иерархия и аристократия, хотя сегодня только вы — единственная сила в этом смердятнике жизни — ха, ха!
I П о д м а с т е р ь е. Ну и стурба, пес бы ей, холере, в сучью влянь!
С а е т а н. У тебя уж язык от ругани заплелся — бросай-ка это дело. Хотелось бы, чтоб кто-нибудь раз и навсегда во всех деталях эту процедуру разобрал, а то, вишь, клянет все на свете безо всякого чувства юмора, а уж тем паче без французского изящества. Прочитал бы лучше «Словечки» Боя, чтоб хоть немного национальной культуры поднабраться, ты — буздрыга, халапудра, ты, блярвотина задрюченная, ты, сморк обтруханный, ужлобище клоповное...
К н я г и н я (холодно. Оскорблена). Будете вы слушать или нет? Если не прекратите ругаться, я, по древнему аристократическому обычаю, сию же секунду удалюсь на файв-о-клок. Меня все это забавляет, только когда ваши проклятья адресованы мне, хлюпогоны вы, пурвогрызы, прибздурки завонюханные...
С а е т а н (уныло). Слушаемся! Больше ни гу-гу!
К н я г и н я. Так вот, они — «супротив» вас — это я так простонародно выражаюсь, чтоб вы наконец поняли, «кес-ке-се». Они разные — это главное. Мы, аристократия, — разноцветные мотыльки над экскременталиями мира сего: вам доводилось видеть, как мотылек порой садится на дерьмо? Прежде-то мы были точно стальные черви во чреве беспредельности бытия и трансцендентальных законов, или как их там: я ведь всего лишь простая, малограмотная графская дочь, и только-то, и всего-то, но это не важно; так вот, нас губит разнородность, поскольку для нас, pour les aristos[84], бравада этих самых «Бравых Ребят» чересчур уж демократична — никогда не известно, чем она обернется. А Скурви уже снюхался с госсоциализмом старого образца, но по мнению Его Супербравейшества генерала Гнэмбона Пучиморды, он и сам слишком близок к вам — ах, эта относительность социальных перспектив! Видите, как запутан клубок относительности: что для одного воняет, то для другого благоухает, и наоборот. Я этих идейных драм не выношу — ну что это такое; бурмистр, кузнец, дюжина советников, баба с большой буквы «Б» как символ вечной похоти, а над всем этим — Он, тот, что якобы всех важнее, чье имя неведомо, да плюс рабочие, работницы и некто неизвестный, а еще выше — в облаках — сам Иисус Христос под ручку — нет, не с Шимановским, а с Карлом Марксом собственной персоной; но меня такой бредятиной не взять — сперва на́ кол посади-ка, а потом уж — лупцевать. Люблю реальность, а не эту символистскую абракадабру из бездарных виршей эпигонов Выспянского, не эту политэкономию неучей, надерганную из бульварных газетенок.