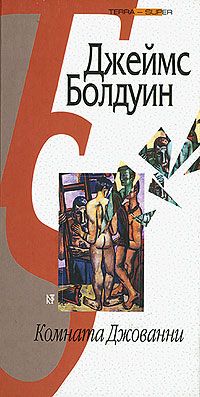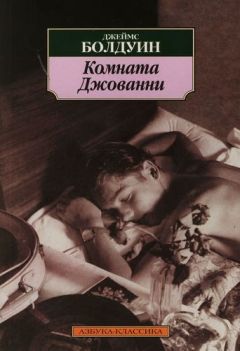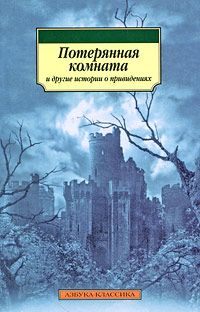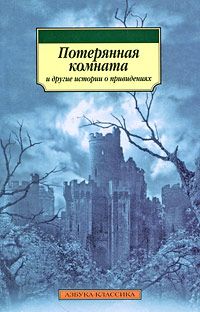Джеймс Болдуин - Комната Джованни
Я принадлежу, вернее, принадлежал к тем людям, которые превыше всего ценят в себе силу воли, умение на что-то решиться и добиться своего. Только это похвальное качество, как, впрочем, и остальные, весьма сомнительны. Люди, которые свято верят в то, что у них сильная воля и они управляют собственной судьбой, неизбежно занимаются самообманом – это и питает их уверенность. Их выбор всегда с изъяном, потому что по-настоящему решает проблему выбора тот скромный незаносчивый ум, который понимает, что решение зависит от тысячи случайных, заранее предусмотренных мелочей, а придумывать себе сложную систему допущений, тешить себя иллюзиями значит видеть мир придуманный, а не реальный. Поэтому и то, что я давным-давно решил в постели Джо, тоже привело меня к самообману. Я решил жить так, чтобы все грязное и порочное в этом мире не касалось меня. Замысел удался – в себя я не заглядывал, к окружающему миру не присматривался, бегал, по сути говоря, по замкнутому кругу. Но даже в замкнутом кругу не уклониться от случайных непредвиденных ударов и падений – они вроде воздушных ям, в которые проваливается самолет. Много у меня на памяти таких падений, пьяных и омерзительных, а одно даже страшное. Случилось это в армии. Был у нас там один педик, которого судил военный трибунал. Помню, в какой ужас и смятение привел меня приговор. То же самое я испытывал, когда заглядывал в себя и видел тот глубоко запрятанный страх, который заметил в мутных глазах этого осужденного человека.
Как бы то ни было, хоть я и не понимал, что означала вся эта тоска, мне осточертело бегать по кругу, осточертели бесконечные невеселые попойки, грубоватые, тупые, подчас искренние, но абсолютно никчемные друзья, осточертело шататься в толпе неприкаянных женщин, осточертела работа, которой кормился в самом прямом смысле этого слова. Может, как говорят в Америке, я хотел «обрести себя». Забавно, что это выражение бытует только среди американцев (насколько знаю, в других языках его нет) и понимать его надо не буквально: оно означает, что человека постоянно грызет смутное ощущение того, что живет он по чужой, враждебной указке. Господи, если бы тогда родилось во мне хотя бы маленькое сомнение в том, что мое «я», которое я собирался где-то обрести, обернется тем самым «я», от которого я так долго бегал и столько раз отрекался, я ни за что не уехал бы из Америки. Но теперь, думается, что чисто подсознательно я и тогда ясно понимал, зачем сажусь на пароход и отправляюсь во Францию.
Глава II
Я встретился с Джованни на втором году моей жизни в Париже, когда сидел без копейки. Мы познакомились вечером, а утром меня выкинули из номера. Не скажу, что я задолжал много, каких-нибудь шесть тысяч франков, но у парижских владельцев отелей прямо нюх на безденежных. И тут они поступают так, как всякий, кто чует дурной запах, – вышвыривают из дома то, что смердит.
В банке у отца были деньги, которые принадлежали мне, но посылал он их крайне неохотно: отец хотел, чтобы я поскорее вернулся домой. «Пора вернуться и осесть», – поучал он, и я почему-то сразу же подумал об осадке на дне бутылки с растительным маслом. Большинство моих знакомых были из круга, который парижане называют ie milieu. Они с удовольствием приняли бы меня в свою общину, но мне до смерти хотелось доказать и им и себе самому, что я не чета им. Я старался доказать это тем, что проводил много времени с ними, демонстрируя таким образом свою терпимость. Я думал, что этим ставлю себя вне подозрений. Разумеется, я написал о деньгах друзьям в Америку, но Атлантический океан – не Сена, и деньги не торопятся его переплыть.
Словом, я сидел в кафе на бульваре, потягивал холодный кофе и листал свою записную книжку. Мне захотелось позвонить старому знакомому, пожилому американскому бизнесмену, бельгийцу по происхождению, которого звали Жак. Он просил, чтобы я ему звонил. Жак занимал большие удобные апартаменты. У него всегда водились деньги и было что выпить.
Как я и думал, он очень обрадовался, услышав мой голос, и от неожиданности сразу пригласил поужинать. Представляю, как он чертыхался и хватался за бумажник, повесив трубку, но было уже поздно. В сущности, Жак не такая уж дрянь. Конечно, он дурак и трус, но ведь почти все люди дураки или трусы, а зачастую и то и другое. Чем-то он мне даже нравился. Юн был глуп, но одинок; да, я презирал его, но теперь понимаю, что это чувство родилось от презрения к самому себе. Иногда он проявлял фантастическую щедрость, а иногда был невероятно скареден. Ему хотелось верить всем, но он не мог поверить ни одной живой душе. Иногда, от отчаяния он осыпал кого-нибудь деньгами, но его неизбежно надували. Тогда он прятал бумажник, запирал дверь квартиры и буквально тонул в беспредельной жалости к самому себе. Наверное, это было единственное подлинное чувство, на которое он был способен. Долгое время я никак не мог отделаться от мысли, что это он, его удобная квартира, приторные обещания, виски, марихуана, его оргии помогли убить Джованни. Так оно, очевидно, и было. Но мои руки окровавлены не меньше, чем его.
Я встретился с Жаком сразу после вынесения приговора Джованни. Он сидел, съежившись, на открытой веранде кафе и пил vin chaud. Посетителей не было, и когда я появился, он меня окликнул.
Выглядел он плохо, лицо помятое, глаза за стеклами очков напоминали глаза умирающего, который мучительно ищет спасения.
– Ты уже слышал, что случилось с Джованни? – прошептал он, как только я подошел.
Я кивнул. Помню, светило солнце, и я подумал, что Жак так же холоден и далек от людей, как это зимнее солнце.
– Это ужасно, ужасно, – простонал Жак, – ужасно! – Да, – отозвался я. Больше ничего я не мог из себя выдавить. – Но зачем, зачем он это сделал? – продолжал Жак. – Почему он не попросил друзей помочь ему?
Жак поднял на меня глаза. Оба мы прекрасно знали, что последний раз, когда Джованни просил у Жака денег, тот ему не дал. Я промолчал.
– Говорят, он начал курить опиум, – продолжал Жак, – на него и нужны были деньги. Ты слыхал об этом?
Да, я уже об этом слышал. Это были газетные домыслы, но у меня были все основания верить им: я помнил, в каком безысходном ужасе и отчаянии находился Джованни. Это и привело его к катастрофе. Помню, он говорил мне: – Мне так хочется убежать из этого грязного мира, je veux m'evader, я не хочу больше заниматься любовью, этой грязной, плотской любовью!
Жак ждал, что я скажу. Я смотрел на улицу. «Джованни умирает», – думал я и пытался представить себе, что Джованни никогда, никогда больше не будет.
– Ты-то, надеюсь, понимаешь, что я тут ни при чем? – сказал, наконец, Жак. – Я не дал ему денег, но знай я, что произойдет, то отдал бы ему все, что у меня есть, Мы оба знали, что он врет. -А вы с ним, – продолжал Жак, – вы с ним были счастливы?
– Нет, – ответил я и поднялся, – уж лучше бы он не уезжал из Италии, жил бы у себя в деревне, сажал маслины, бил жену и плодил детей.
– Он любил петь, – вдруг вспомнил я. – Останься он в деревне, может, прожил бы там всю жизнь и умер семейным человеком.
И тут Жак сказал фразу, крайне удивившую меня. Когда люди сильно взволнованны, они часто говорят удивительные вещи. Иногда они даже удивляют самих себя. Вот и Жак бросил фразу, которая до крайности удивила меня.
– Никому не дано найти свой рай, – сказал он, а потом добавил, – интересно, почему?
Я ничего не ответил, попрощался и ушел. Хелла давно уже вернулась из Испании, мы как раз договорились снять здесь домик, и я должен был с ней встретиться.
С тех пор я часто размышлял над словами Жака. Вопрос, конечно, банален, но беда в том, что и жизнь банальная штука.
Все мы идем по одной и той же темной дороге и, когда нам уже кажется, что впереди забрезжил свет, мы попадаем на самую темную и коварную тропинку. Правильно сказал Жак: никто не может добраться до рая. Разумеется, рай Жака совсем не похож на рай Джованни. У Жака он ассоциируется с молодыми футболистами, а у Джованни – с прекрасными девственницами. Но дело совсем не в этом. Не знаю, наверное, у каждого есть свой рай, но никому не дано попасть туда до самого смертного часа.
Сама жизнь предлагает нам выбор: или-или. Всю жизнь вынашивать мечту о рае или навсегда похоронить ее в памяти; нужно обладать мужеством, чтобы вынашивать эту мечту, и не меньше требуется мужества, только совсем иного свойства, чтобы о ней не помышлять. А тот, кто умудряется делать и то и другое одновременно – герой. Люди, которых преследуют мысли о рае, постепенно сходят с ума, сходят с ума от боли, которую причиняет им утрата чистоты, от грязи, в которой медленно захлебываются. Но и те, кто не думает о рае, тоже сходят с ума; они сходят с ума от того, что их гнетет чистота, – они ее ненавидят: Так и делится мир на сумасшедших, которые вынашивают мечту о рае, и безумцев, которые даже не помышляют о нем. Герои же встречаются крайне редкое