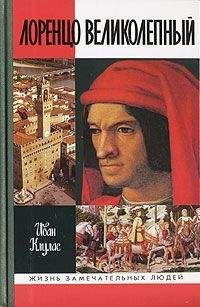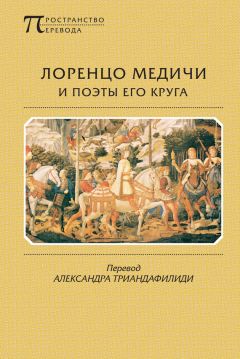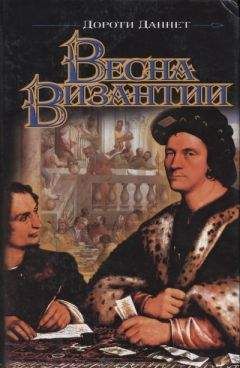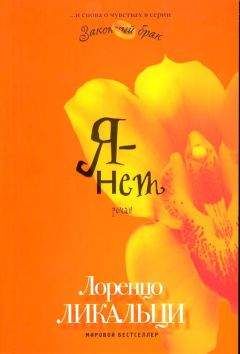Альфред Де Мюссе - Лоренцаччо
Катарина. Безмолвные тени появляются на дороге; пойдем домой, Мария; меня пугают все эти изгнанники.
Мария. Бедные люди! Они должны бы внушать только сострадание! Ах! Неужели нет такого предмета, при виде которого в сердце мое не вонзилось бы жало? Увы! моя Катарина, это ведь тоже дело рук Лоренцо. Все эти бедные горожане доверяли ему; среди всех этих отцов семейств, изгнанных из отечества, нет ни одного, которого не предал бы мой сын. Их письма, подписанные их именами, показаны герцогу. Так даже славная память предков служит ему для бесчестных дел. Республиканцы обращаются к нему, как к отпрыску древнего рода их покровителя; дом его открыт для них; даже Строцци ходит к нему. Бедный Филиппо! Печальный конец ждет твои седые волосы! Ах, когда я вижу девушку, утратившую стыд, несчастного, лишенного семьи, мне слышится вопль: "Ты мать наших несчастий". О, когда же я буду там? (Ударяет по земле.)
Катарина. Бедная моя мать, от ваших слез самой хочется плакать.
Удаляются. Солнце зашло. Группа изгнанников собирается среди поля.
Один из изгнанников. Вы куда?
Другой. В Пизу. А вы?
Первый. В Рим.
Третий. А я в Венецию; вот эти двое идут в Феррару. Что станет с нами вдали друг от друга?
Четвертый. Прощай, сосед, до лучших времен.
Тот уходит.
Прощай! А мы, мы с тобой можем идти вместе до креста богоматери. (Уходит с другими.)
Подходит Маффио.
Первый изгнанник. Ты, Маффио? Какими судьбами?
Маффио. Я с вами. Знайте, что герцог похитил мою сестру; я обнажил шпагу; какой-то тигр железными когтями схватил меня за горло и обезоружил. После того я получил кошелек, полный дукатов, и предписание покинуть город.
Второй изгнанник. А твоя сестра, где она?
Маффио. Мне показали ее нынче вечером, она выходила из театра в платье, какого нет даже у императрицы; бог да простит ее! Ее сопровождала старуха — при выходе ей пришлось распрощаться с парой зубов. Еще никогда в жизни удар кулаком не доставлял мне такого наслаждения.
Третий изгнанник. Пусть захлебнутся они грязью своего распутства — мы бы умерли счастливые.
Четвертый. Филиппо Строцци напишет нам в Венецию, и вот в один прекрасный день мы с удивлением узнаем, что к нашим услугам целая армия.
Третий. Жить ему долгие годы, нашему Филиппо! Пока на голове у него есть хоть один волос, свобода Италии не умерла.
Часть изгнанников отделяется от остальных; все они обнимают друг друга.
Голос. До лучших времен!
Двое изгнанников поднимаются на возвышенность, откуда виден город.
Первый. Прощай, Флоренция, чума Италии! Прощай, бедная мать, у которой нет больше молока для детей твоих!
Второй. Прощай, Флоренция, незаконная дочь, мерзкий призрак древней Флоренции! Прощай, грязь, которой нет названия!
Все изгнанники. Прощай, Флоренция! Да будут прокляты сосцы твоих жен! Да будут прокляты твои слезы! Да будут прокляты молитвы церквей твоих, хлеб полей твоих, воздух твоих улиц! Да падет проклятие на последнюю каплю твоей развращенной крови!
Действие второе
Сцена 1
В доме Строцци.
Филиппо (в своем кабинете). Десять граждан изгнано из одного только этого квартала города! Старый Галеаццо и маленький Маффио изгнаны, сестра его соблазнена, в одну ночь стала публичной женщиной! Бедная малютка! Когда же воспитание низших классов настолько окрепнет, что девочки не будут смеяться, в то время как родители их плачут? Или развращенность — закон природы? То, что называют добродетелью, — неужели это лишь праздничный наряд, который надевают, когда идут в церковь? А в остальные дни недели сидят у окна и, не отрываясь от вязания, поглядывают на молодых людей, что проходят мимо. Бедное человечество? Каким же именем назвать тебя? Именем этого племени или тем, которое дано тебе при крещении? А мы, старые мечтатели, какое пятно первородного греха смыли мы с человеческого лица за те четыре или пять тысяч лет, что мы ветшаем вместе с нашими книгами! Легко нам в тишине кабинета легкой рукой проводить по этой белой бумаге черту, чистую и тонкую, как волос! Легко нам с помощью этого маленького циркуля и нескольких капель чернил строить дворцы и города! Но зодчий, у которого тысячи великолепных планов, не может поднять с земли первого камня для своего здания, если он берется за работу с согбенной спиной и упрямыми думами. Печально думать, что счастье человека — только сон: но что зло непоправимо, вечно, недоступно переменам — нет! Зачем философу, который трудится для всех, смотреть вокруг себя? Вот в чем беда. Малейшее насекомое, появляющееся перед ним, прячет от него солнце. Смелее же за дело; республика — вот это слово нужно нам. И хотя бы это было только слово, все же это — нечто, раз народы восстают, когда оно рассекает воздух… А, здравствуй, Леоне.
Входит приор Капуи.
Приор. Я с ярмарки в Монтоливето.
Филиппо. Хорошо там было?
Входит Пьетро Строцци.
А вот и ты, Пьетро. Садись-ка, мне надо поговорить с тобой.
Приор. Было очень хорошо, и я неплохо развлекся там, вот только — одна досадная встреча, слишком уж досадная, мне трудно ее переварить.
Пьетро. Ну? Что же это?
Приор. Представьте себе, вхожу я в лавку выпить стакан лимонаду… — Да нет, не стоит рассказывать, и я глупец, что вспоминаю об этом.
Филиппо. Черт возьми, что у тебя на душе? Ты говоришь так, словно терпишь муки чистилища.
Приор. Пустяки; злая клевета, больше ничего. Все это совсем не важно.
Пьетро. Клевета? На кого? На тебя?
Приор. Нет, собственно, не на меня. Стал бы я беспокоиться, если бы клеветали на меня!
Пьетро. На кого же? Ну, говори, раз ты начал.
Приор. Я неправ; о таких вещах не надо вспоминать, если знаешь разницу между честным человеком и Сальвиати.
Пьетро. Сальвиати? Что сказал этот мерзавец?
Приор. Это негодяй, ты прав. Не все ли равно, что он может сказать? Человек, лишенный стыда, придворный лакей, женатый, говорят, на величайшей распутнице. Бросим, довольно, я больше не буду об этом вспоминать.
Пьетро. Вспомни и скажи, Леоне; меня так и подмывает оборвать ему уши. О ком он злословил? О нас? О моем отце? А! Клянусь кровью христовой, я не слишком-то люблю этого Сальвиати. Я должен знать, слышишь?
Приор. Если ты настаиваешь, я скажу тебе. В лавке, при мне, он отозвался о нашей сестре в прямо оскорбительных выражениях.
Пьетро. О боже! В каких словах? Ну, говори же?
Приор. В самых грубых словах.
Пьетро. Ах, чертов священник! Ты видишь, что я вне себя от нетерпения, и ищешь слов! Говори, как все было, проклятье! Если слово — так слово. Тут и сам господь вышел бы из себя.
Филиппо. Пьетро, Пьетро, ты непочтителен к брату!
Приор. Он сказал, что проведет с ней ночь, вот его слова, и что она ему обещала.
Пьетро. Что она проведет… Ах, смерть смертей, тысяча смертей! Который час?
Филиппо. Куда ты? Полно! Ты прямо как порох! К чему тебе эта шпага? Ведь твоя шпага при тебе.
Пьетро. Да, ни к чему; идем обедать; обед подан. Уходят.
Сцена 2
Портал церкви. Входят Лоренцо и Валори.
Валори. Как это случилось, что герцога нет? Ах, синьор, какое удовлетворение для христианина эти пышные обряды римской церкви! Кто может быть равнодушен к ним? Разве художник не обретает в них рай своей души? Воин, священник и торговец не встречают ли в них все, что им дорого? Эта удивительная гармония органов, это убранство стен, блещущих бархатом и коврами, эти картины величайших художников, эти теплые сладостные благовония колеблемых кадил и упоительное пение серебристых голосов — все это своим мирским обличьем может оскорбить старого монаха, врага утех; но, думается, нет ничего прекраснее веры, которая подобными средствами старается внушить к себе любовь. Зачем стремятся священники служить ревнивому богу? Вера — не хищная птица; она сострадательный голубь, она тихо реет над всеми грезами, над всякой любовью.
Лоренцо. Бесспорно; то, что вы говорите, совершенно справедливо и совершенно ложно, как все на свете.
Тебальдео Фречча (приближаясь к Валори). Ах, монсиньор, отрадно из уст такого человека, как ваше высокопреосвященство, слышать эти речи о терпимости и священном восторге. Позвольте безвестному гражданину, горящему этим священным огнем, поблагодарить вас за те немногие слова, которые я только что слышал. Найти в речах честного человека то, чем полно твое сердце, — величайшее счастье, какого только можно пожелать.