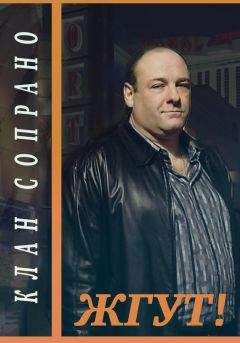Антонен Арто - Театр и его Двойник
Все это постоянно является частью нашего сознания. И все же, формулируя свои мысли в разговоре, мы и даже иные писатели склонны пренебрегать этими невербальными элементами сознания, хотя они могут играть важную роль, вызывая или, по крайней мере, оживляя нашу мысль. Мы склонны в общем ставить знак равенства между сознанием и его вербальной составляющей, языковым потоком, который проходит через нас как нескончаемый внутренний монолог.
Можно было бы думать, что мы делаем это совершенно справедливо. Разве не в высшей степени незначительны эти невербальные элементы сознания?
Для поэта, мог бы утверждать Арто, именно эти невербальные элементы представляют наибольшую важность. Они тесно связаны с самим существом поэзии — человеческим чувством.
Что такое чувство? Оно может быть вызвано словами, но само оно невербально. Мы осознаем его, оно часто овладевает нашим сознанием, но само чувство, безусловно, принадлежит его невербальному уровню. И если бы мы стали анализировать природу чувства, мы бы обнаружили, что, каким бы возвышенным, каким бы сильным оно ни было, оно является неотъемлемой частью тех же самых телесных ощущений; что оно только своей степенью отличается от таких низменных чувств, как ощущение полноты желудка или ноющая головная боль самого Арто.
Чем бы ни вызывались наши эмоции, мы переживаем их как телесные ощущения — ускорение пульса, расслабление мускулов, повышение кровяного давления или выделение половых гормонов с различными физиологическими эффектами. Страх и радость, возвышенная красота заката, встреча с возлюбленной или даже восторг от чтения прекрасных стихов переживаются в конечном счете как телесные ощущения.
Вот почему слова «мне холодно» казались Арто неспособными передать то, что он действительно переживал, когда чувствовал холод. Чтобы передать чувство другому человеку, в чем и заключается сущность поэзии, абстрактных слов недостаточно. Вот почему поэзия использует конкретные аспекты языка, которые непосредственно передаются телу. Это такие элементы, как музыкальность слов, эмоциональная природа звуков, из которых они состоят, ритм стиха, который активизирует собственные ритмы тела — пульсацию крови и огромное количество невербальных ассоциаций, присущих языку и разбуженных словами.
Формула «мне холодно», которая абстрагируется от всех реально существующих сложных телесных ощущений, связанных с переживанием такого физического состояния, служила для Арто примером того, как слишком бездумное использование языка высушивает переживание и иногда заставляет людей, которые полагаются на такой способ общения и мысли, терять связь с самой жизнью. Ему казалось, что они подставляют математическую формулу, абстрактную модель переживания вместо накатывающегося потока существования во всей его полноте, богатстве и сложности.
«Театр — единственное место в мире и вместе с тем последнее наше средство, способное оказывать прямое воздействие на человеческий организм. В периоды неврозов и угнетенного физического состояния, вроде того, который мы переживаем сегодня, театр способен воздействовать на угнетенную психику с помощью физических средств, которым невозможно противостоять» (IV, 97). Так Арто выражал сложившееся у него к середине 30-х годов понимание того, что поэзия, с которой он желал иметь дело, выходила за рамки слов. Одновременно инструментом, необходимым для передачи этой поэзии, и реципиентом, к которому она должна быть направлена и которым соответственно переживается ее воздействие, является в действительности человеческое тело.
Идеи Арто относительно новой техники и практики театра (которые будут более подробно рассмотрены в следующей главе), таким образом, по существу, являются попыткой передать полноту человеческого переживания и чувства, избегая дискурсивного использования языка, установить контакт между художником и зрителем на уровне более высоком — или, возможно, более низком, — чем вербальный уровень. Чувствуя себя неспособным, как, вероятно, и было на самом деле в этот период, найти бесконечное многообразие сильных и тонких технических приемов, с помощью которых только и можно заставить поэзию производить такое глубокое воздействие, при котором передается вся полнота человеческого чувства, как душевного, так и физического, он мучительно пытался найти пути и средства передать свое переживание, свое физическое страдание и физический восторг непосредственно уму и телу другого человеческого существа. И он чувствовал, что при этом должен «убить язык, чтобы прикоснуться к жизни» (IV, 18).
Именно так мы должны понимать его употребление термина «Театр Жестокости»: он хотел, чтобы театр был брошен в толпу зрителей как ужас чумы, Черной Смерти средневековья, со всей ее разрушительной силой, совершающей полный переворот — физический, духовный и моральный — в людях, среди которых она разразилась. В эссе «Театр и чума», самом, вероятно, поэтическом, из книги «Театр и его Двойник», он заявляет: «Театр, как и чума, — это кризис, который ведет к смерти или выздоровлению. Чума является высшим злом, потому что она свидетельствует об остром кризисе, после которого приходит или смерть, или предельное очищение. Но театр тоже зло, так как он представляет собой высшее равновесие, которого нельзя достичь без потерь» (IV, 38–39).
В таких высказываниях проявляется фанатическая страстность, с которой Арто добивался своей цели, обет истинно безумного героизма. Новый язык театра, высшее средство общения за пределами дискурсивного употребления понятий, языка и слов, мог бы установить связь, посредством которой чувства во всей полноте могли бы переливаться от тела к телу, от актера к зрителю. А это, ломая барьеры между людьми, давая им возможность сопричастности, могло бы привести не к чему иному, как к новой человеческой общности, глобальной трансформации общества и через это дать человеческому существованию новое содержание, новое более высокое качество.
Эта грандиозная мечта питалась — можно почувствовать это в пророчествах эссе «Театра и его Двойника» — яростью бессилия, накопленной в отчаянных попытках соединить края пропасти, разделяющей ощущение и его вербальное выражение. Как будто Арто хотел выпустить на волю сдерживаемую энергию этого бессилия в мощной освобождающей вспышке насилия, агрессии против бесчувственного внешнего мира, представленного массой самодовольных, равнодушных зрителей театра, которые оказались бы подавленными, потрясенными и вынужденными чувствовать, страдать так, как страдал он, Анто-нен Арто.
Если язык сам по себе оказался неспособным передать физические ощущения его мучительной борьбы, возможно, атака на их чувства в театре могла бы пробудить их от равнодушия и, ввергая их в такую же боль и страдания, открыть их души, стряхнув с них апатию, совершить моральное очищение. Сам Арто, который всегда ясно представлял себе свое душевное состояние, опасался этой агрессии, скрытой за всеми его усилиями. «Знаешь ли ты другого человека, — писал он Бретону в 1937 году, незадолго до своего отъезда в Ирландию, — чья ненависть ко всему существующему была бы такой устойчивой и сильной и кто постоянно находился бы в состоянии бурного протеста? Эта ярость, которая пожирает меня и которой я каждый день пытаюсь найти лучшее применение, должна иметь какой-то смысл».
Еще больше, чем против самодовольных буржуа, которые не знали и не хотели знать о его страданиях, эта ярость была направлена против системы мышления, против всего культурного климата, который породил такое отношение. Разве не основывалось самодовольство этих людей на идеале разума, умеренности, bienseance,[340] которая так долго вдохновляла французское общество, и разве не был этот идеал, в свою очередь, результатом веры в логику и, в конечном счете, в правильность употребления языка и в разум как инструмент самоконтроля. Именно чрезмерное доверие к способности логического рассуждения найти справедливое и всегда умеренное решение всех проблем привело к тому, что родники истинного чувства иссякли. Оставив Францию ради Мексики, страны, которая, как он считал, осталась ближе к этим истокам и еще питалась неизвращенным чувством, Арто предостерегал своих мексиканских друзей от опасности европейского рационализма и искушения оказаться наследниками «латинского духа, рациональной культуры, власти разума» (VIII, 266). У них все еще был, считал Арто, доступ к более богатому опыту через ритуал, магию и возможность отдаться диким фантазиям пейотля.
И все же надежды, которые Арто возлагал на театр и на свои попытки создать новый язык — язык физически воплощенной поэзии, рухнули. Есть трагическая ирония в том, что через это крушение надежд и вызванный им кризис, катастрофу, Арто наконец соединил пропасть, зияющую между чувствами и их превращением в слова, и что он нашел собственный поэтический язык, способ выражения, такой мощный и непосредственный, что он был способен передать чувства поэта на физическом уровне телесных ощущений.