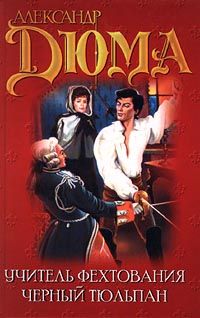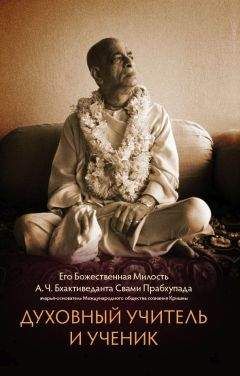Леонид Леонов - Избранное
— Не быть нам боле, — плача, сказал Кир, и братия поняла, что не ему, немощному и уже низверженному, а башнеподобному Филофею правительствовать впредь на Соти.
V
Вырытого в эту встречу глубокого оврага так до самого отъезда гостей и не переходил никто; еду носил им из трапезной за особую приплату скромный и запуганный чем-то инок Тимолай. У него при случае спросил раз Увадьев о Геласии, но тот смутился, покраснел и нехотя сообщил, что на него наложена Филофеем эпитимья — мыть полы по всей обители; дознаться сущности геласиева проступка Увадьеву не удалось. В ожиданьи дня, когда начнёт действовать перевоз, гости шатались по ещё не обсохшему лесу, и Увадьев попрежнему уходил один, а Фаворов не роптал на доставшееся ему одному бремя — сопровождать Сузанну. Увадьев ходил много и не без пользы; в одно из своих странствий он набрёл на замечательный песок, великолепный для бетона, а в другой раз, в лесной сторожке, отыскал газету на стене, напомнившую ему с огромной силой тот год, когда он впервые, ещё учеником, пришёл в революцию. Это оказался тот самый тридцать пятый номер «Русского государства», в котором впервые был напечатан обвинительный акт против лейтенанта Шмидта. Осторожно содрав пожелтевшую бумагу, он потащился с нею на полюбившийся ему обрыв и там застал Геласия; стиснув виски руками, инок щурко гляделся в пространство перед собой; ветерок шевелил путаную, медного цвета гриву. Скуфейка его жалким комочком валялась рядом, на лавке. Внизу, скрежеща и мерцая, шёл лёд. Уже стемнело, и сквозь суматошные волны облаков, подобно камню, выпущенному из пращи, стремглавая летела луна.
Посдвинув палочкой геласиеву скуфью, Увадьев присел рядом, и оттого, что глаза уже не справлялись с выцветшей газетной печатью, попытался продолжить старый разговор о красоте и правде; но тот отвечал скупо, хотя и без особой брани. Всё же из мелких геласиевых оговорок ему удалось вызнать кое-что, и прежде всего то заманчивое обстоятельство, что за восьмилетнее пребывание в скиту Геласий так и не свыкся с необходимостью душевного самооскопленья. Посреди разговора он поднялся и ушёл, а Увадьев, хотя по старинной слабости и считал себя ловцом человеков, не остановил его ни звуком; в дикарской борьбе, которую в эту пору вёл сам с собой Геласий, он всё равно не смог бы помочь ему ничем.
Он был рад, в сущности, и тому немногому, что разгадал в Геласии. Сюда привела его ещё мать, забитая солдатка, привела мальчика на годичный срок, то ли желая снять с себя непосильную обузу, то ли надеясь, что хоть отсюда сын достучится в немилосердную дверь правды. Её задавило поездом в соседнем уезде, а мальчик так и остался в скиту. Первые годы Ганька батрачил подпаском в окрестных сёлах, принося в обитель свою скудную долю, и сначала ему нравились и ряска, которую ему тут же сшили по росту, и суровый уклад скита, по которому с него, как со взрослого, требовали труда и молитвы. Подросши, он держал перевоз на реке и, долгими часами выжидая какого-нибудь шального путешественника, вдоволь имел времени поразмыслить над книгой или над судьбой. Книги в большинстве попадались церковные, и во всех с такой страстной ненавистью живописалось о женщине, что ко времени событий на Соти у него только и мыслей было, что об этом сладком и неминуемом ужасе. Воображение мучило его; он видел её всяко: в бреду сновидений и в беспамятстве голодного тифа, драконом и огненной ямой, пушистым красным облаком и длинной, пронзающей иглой; в её истинном виде он не знал её никогда. Осенью он иногда убегал, неделю бродил где-то в неизвестности, и только холода пригоняли его на тёплое место, назад; весной, когда самый воздух бывал заряжен протяжным шумом и желанием, он верил, что это грех и воет на бору, встав голой мордой на восток…
Появление Сузанны не походило на то, как описывалось это в тёмных, источенных жуками патериках: не в огне, не в облаке, не в обольстительной наготе… а скрипучую телегу Пантелея трудно было бы принять и пьяному за апокалиптическую колесницу!.. но она явилась ночью, в таинственный час весны, когда каждый сучок в лесу коробило смутительным ветром пробуждения. Рыбу бьют острогой, когда она спит; ад засылал за ним своих гонцов в виде, который не будил подозрений. Ночи Геласия стали тревожны; оранжевый пар выходил из стены и обволакивал ему руки; он пил воду, и она вызывала в нём ядовитую отрыжку; он схватил снега в горсть, и самый снег был ему оранжев. Стало так, точно река неслась вдесятеро быстрее, дразня своими хмелекипящими водоворотами, и один, самый близкий, был стремительнее остальных…
Геласий пытался говорить с Тимолаем, с которым связывала не столько дружба, сколько одинаковая судьба; они вместе когда-то пастушили на Лопском погосте.
— …видел, а? — и Тимолай сразу понял, что речь о приезжей. — Руки-то видел её? Лёгкие, поди, пуха легше…
— Персты тонкостны, действенны… — оторопело согласился Тимолай, застигнутый врасплох.
— А губы-то чёрные… как хлеб, чёрные, видал ты?
Тимолай недоверчиво глядел на помрачённого в разуме.
— Что ты… они не бывают чёрные! — И бежал, страшась последнего, что имел сказать ему Геласий.
Через сутки Геласий пошёл к Филофею, который был его духовником. Тот чинил замок и давал распоряжения Вассиану; глаза его уже нуждались в помощи стёкол, но очков в уездном городке не нашлось, оттуда выслали пенсне со шнурочком; было забавно Геласию видеть стеклянные крылышки на его квадратном носу.
— … с Красильникова за сапоги получено? — допрашивал Филофей.
— Вот Геласий завтра комиссара повезёт, кстати и получит.
— А с Шибалкина за колоду?
— Половину уплатил, а на другую мясца сулил прислать на праздниках.
— Впредь деньгами бери, без баловства. — Он внушительно посмотрел на Геласия, с тёмным лицом стоявшего на пороге. — Нажрутся мяса — цепями их потом не удержишь. Нам чиниться надо, изветшал корабль, а ноне и на гроб даром леса не дадут. Стыдно живём: крыши текут, в иконостасе птицы гнездятся: стою надысь, — на нос капнуло. С часовни ничего не присылали?
— Вот, всё тут… — И казначей высыпал перед ним детскую горстку меди. — Гривенничек царской чеканки попался. Ноне и бога-то норовят надуть!
— Глядеть надо! — зыкнул Филофей и с грозным лицом вклёпывал в замок новый стерженёк для ключа. Пересчитав даяния верных, он прогнал казначея, тогда на вассианово место неробко уселся Геласий. — Навестить зашёл? — поднял он голос и, мельком взглянув на высокий, весь в прыщах лоб Геласия, должно быть уловил сущность геласиева смущенья. — Где это тебе дьявол рожу-те заплевал? Ишь, в небе звёзд мене, чем на тебе, этой дряни…
— Жажда палит, — сипло ответствовал тот.
— Жажда… — И крылышки отпали от его вздувшегося носа. — Человек, он земляного составу. Потому никаких морей нехватит напоить землю, когда жаждет она. — И опустил глаза, радуясь аскетической красоте образа.
— Каб не жаждала, не рожала бы столько! — тряхнул головой инок.
Филофей омрачённо усмехнулся и, как бы приготовляясь к врачеванию души, вытер о передник руки, рыжие от керосина и ржавчины.
— Небось, думаешь, — осторожно начал он, упираясь локтем куда-то в пах себе, — что стар я, волосами зарос? А и доселе, быват, распалюсь — хоть в землю себя зарывай для остуженья. — Он глубоко захлебнул воздух, и в груди его скрипнуло что-то. — А потом прочту в книге, как всё это уже бывало и как прошло… и отойдёт!
И впрямь, ещё не истаял в его ушах рассыпчатый смех трактирщицы Аграфены Петровны, муж которой заказал однажды кузнецу рессоры к таратайке, а получил вдобавок и пискуна. В своё время он вдосталь нахлебался жизни и теперь с неуклюжим жаром топтал радость именно за то, что она не обманула да и не насытила его. Голос его крепчал, взвивался в нём бич, и слова громыхали, как звенья якорной цепи; целые полчища одичалых Антониев Великих толпились в обширной его груди: добровольным истреблением воли призывал он бороть смерть, а Геласий видел распластанного на траве жеребёночка и его с тоской откинутую морду. Сцена эта навсегда отпечатлелась в сердце Геласия. Пастушонком он проходил мимо кузничного двора и случайно видел, как жеребёнка приспособляли на службу человеку. Связанный по ногам, с губой, до крови вкрученной в лещётку, конёк лежал смирно, кося глазами и сосредоточась на ожидании казни, а Федот уже заносил над ним равнодушную руку коновала. Игристого этого конька больше всех любил в своём стаде Ганька, — с того и возненавидел кузнеца.
Вдруг с утроенной силой пробудилась детская ненависть, и в самом грозном месте поученья, когда сверкало филофеево слово, как топор, вскинутый над шеей нечестивца, принялся Геласий отстукивать сапогом песенку с ножку стола.
— … не стучи, не скалься!
— Штучка одна меня смешит, — совсем неробко признался тот и подмигнул, останавливая в разбеге гремучий филофеев поток. — Вспомнилося вот, как Грушка в кузню к тебе бегала… там ребята в стене паклю повыдергали и засматривали в дирочку. Мы её, Грушку, кулебячкой прозвали… так и смеялись: во, опять кузнец кулебячку ест!