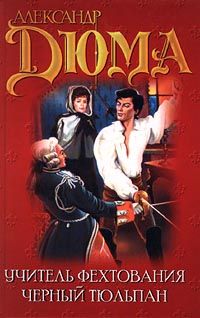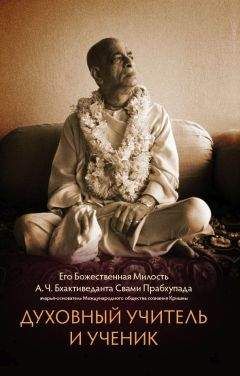Леонид Леонов - Избранное
Про него говорили, что и он вдоволь побродил по гиблому донышку жизни и радости не обрёл по плечу себе. Ему приписывали и мудрость, и высокое происхожденье, а он был простой наёмный косец и, кроме искусства безустанной косьбы, не умел ничего. Он ходил от села к селу, нанимаясь в богатые дворы, и его даже не особенно обижали, пока не произошло несчастье. Потный, он купался раз в коряжистой Енге, и что-то шершавое скользнуло ему по ногам; с этого началось, и Гордий, шестой по счёту преемник Мелетия, подобрал его, уже обезноженного, с дороги. Его положили в землянке, и первое время он лежал в забвении, пока не надоумился вышереченный авва Авенир извлекать из него пользу. Из поколения в поколение он стал переходить, как достояние и бремя, а со временем и сам привык ко всеобщим заботам и к подневольной роли прозорливца. Один век сменился другим, за иное страдали люди, а он всё лежал и, кажется, только теперь начинал постигать торжественную радость бытия.
Лишь малая часть разговора с гостями доходила в евсевиевы потёмки, многого он не уразумел по ветхости разума, но, видимо, учуял необычность происходившей распри. Жизнь шла мимо него, и он не вынес, наконец, могильного своего одиночества… Столпясь в дверях, гости наблюдали стариковскую суету и не уходили.
— Кирюха, Кирюха!.. — капризно и тоненько закричал из норы своей Евсевий. — Чего ж Виссарьонушко-те смолк? Когти, когти ихнюю мать…
— Убежал он, батюшко, може, живот с капусты заныл! — в тон ему прокричал игумен, складывая руки дудкой и наклоняясь над незримым существом.
— Кирюха… куда ты прячешься от меня, Кирюха?
— Тут я, тут, батюшка! — Он хлопотливо поискал глазами и, схватив кусок сахару, сбирался сунуть его в руку старца, но сахар выпал из дрожавших пальцев, а поднимать его с полу стало уже некогда.
— Что, что в миру-то? — с томлением, как бы издалека вопрошал Евсевий.
— А дым, дым в миру идёт, ничего не видать за дымом! — забывая о присутствии чужих людей, отвечал Кир.
Некоторое время ушло на то, чтоб дошли до евсевиева уха сказанные рядом слова.
— Дым-то, откеда он?
— Из людей дым, батюшка!
— Сколько веков полыхаит… — плаксиво рассудил Евсевий, и сердитый кулачок разжался. — Благодетели живы ли?
— Благодетели-то ноне сами копеечке ради… — горько признался Кир.
Так прошло несколько минут; старики шептались, рука бездействовала, шёл копотный воздух от светца, и в нём слоисто колыхался мрак. Вдруг койка заскрипела, точно лез наружу святой, соскучась о жизни и людях.
— Что… что они строить-то будут?.. больницу, что ли?.. Да откройте меня, жулики… кобели, откройте меня!
— Баба тут, батюшка, — совсем потерянно сообщил Кир. — Баба, живая…
Окончательно смущённые бунтом Евсевия, старики просительно взирали теперь на Увадьева, которому одному дано было удовлетворить скандальное любопытство старца, но тот безмолвствовал, лишь покачивая головой, и ничем не выражал намерения вмешаться вновь. Тогда Сузанна двинулась с места, и всем показалось, что лицо её не предвещает доброго. Старики опять зашумели, ибо в прорыв, который свершила Сузанна, неминуемо должны были хлынуть новые полчища людей, любопытствующих о тайне. Закрыв руками незрячие глаза, хныкал Аза в уголке, и не понять было, плакал он или смеялся; Вассиан пучил скошенные-глаза в сторону, точно ждал оттуда сабельного удара; вдруг вскочил Ювеналий и опрометью, подобный летучей мыши, бросился в дверь, а задетый чайник с грохотом покатился за ним.
Старики кричали:
— Зададут теперь сырынаду!
— Псыня на падаль бежит…
— Храните Евсевейку!..
Никто, однако, не посмел остановить её на полпути к ложу Евсевия.
— Откройте его!
Голос её надломился, и повелительность не удалась, но рябой Филофей тотчас же сдвинулся с места и, поднеся огонь, разворошил тряпки на Евсевейке. Сверкали филофеевы глаза:
— Зри… эва, какой молодчик лежит!
Лишь немного привыкнув к теплоте тленья, исходившей из дыры и колебавшей пламя, она заглянула. Там в колодце из грязной ветоши ворочалось маленькое, сплошь заросшее как бы шерстью лицо человека, а ей показалось — мохом. Должно быть, уже сама земля просвечивала сквозь истончавшую кожу лба. Нижняя губа его капризно выдавалась вперёд, а глаза были закрыты; святого слепил свет, и густейшие брови его дрожали от напряженья. Вдруг волосы, росшие как попало и во всех направлениях, распахнулись: Евсевий открыл глаза. Было ей так, будто заглянула в самое чрево земли сквозь ту непостоянную, бегучую протоплазму, в которую цветисто разряжен мир. Теперь Сузанна не удивилась бы, если б этот первобытный дикарь рассказал вдруг хотя бы про доисторическую метель, которая когда-то в отсутствие людей вилась над Сотью. Она защурилась и отступила.
— …и блохи едят, и вонь томит, — жалобно просвистел святой, всячески приноравливаясь к свету. — Баба! — прошелестел он потом, хотя вряд ли различал лицо Сузанны, и сразу весь затормошился, как бы намереваясь бежать от приступившего зла; не бежал он вовсе не оттого, что утерял свою власть над ногами. — Бабочка… мази принеси мне… какой ни есть мази. Кожа у меня на ногах расседается. Лежать-то надоело, ой, кои веки невосклонно лежу!..
Он так и не успел израсходовать до конца филофееву милость; башнеподобный накинул на него подобие домотканого половичка, и голос с другого берега прекратился.
— На ножки он ослабел, попортились у него ножки… — торопливо зашептал Вассиан, пытаясь коснуться сузанниной руки. — А уж такой, сказывают, бегун был…
Та в раздумьи кусала свои отвердевшие губы:
— Бегун-то бегун… На воздух бы его, отцы. Больного человека в экой вони содержите!
— Так ведь на воздухе-то ноне самая простуда и ходит, а вонь… своя-то вонь кажному мила! — всё домогался её улыбки казначей. — И ты не гляди, что малодушье обуяло святого. И гора плачет, как её кирками бьют…
— Я не гляжу, не гляжу, — улыбнулась, наконец, она, но совсем не так, как хотелось Вассиану. Минуту спустя она спросила тихо: — этот… брат Виссарион давно у вас поселился?
— Четвёртый год, маточка… Евсевию больно полюбился, души не чает в нём! — заюлил Вассиан, а она уже взялась за скобку.
Фаворов тотчас же, как гайдук, последовал за ней, и один Увадьев в непостижимом оцепенении всё ещё наблюдал чуждое ему происшествие. Созерцание этих людей в горящем доме поселяло в нём не враждебность, пожалуй, а какое-то брезгливое сочувствие; было что-то очень понятное ему в этом наивном куске шестнадцатого века. Глаза его раскосились, он не ожидал встретить здесь такую человеческую пустыню, но тут кашлянул Аза невзначай, и Увадьев медленно пошёл в сенцы; здесь и догнал его Кир, игумен.
— …слушай-ка, постой, обожаемый товарищ! — В потёмках цынготный рот его произносил не те слова, которые он заготовил впопыхах, за короткую минуту передышки. — Возьми-ка, вот, спрячь… Там, в миру, и табачишку надо купить и колечко жёнке… жёнки-то ноне, ух, форсливы, а какое у вас жалованьишко. Бери, бери, от чужого добра не обедняешь! А мы вам завтра и лошадку срядим, вы и поедете… будто искали, да не нашли, а? — Он совал что-то в бок Увадьеву, не нож, но и не пустую руку, а тот всё хмурился и не понимал. — Мы бы и больше дали, да нету! Тут двадцать два, ты посчитай-ка, двадцать два рубля тут…
Грозово наливаясь бешенством, Увадьев неуклюже полез за карамелькой.
— Сам я, отец, не курю, и тебе не советую, а я жую вот конфетки. На, попробуй, сладкие! — Открыв жестянку, он положил один леденец, как копейку, в протянутую руку Кира и снова сунул её себе в карман. — Пососи вот… А на деньги эти купи себе облигацию крестьянского займа. Процент большой, да и выигрыш попадается. Ну… будь умник!
Поскрипел кирпичик на блоке, и дверь захлопнулась, а Кир всё стоял с увадьевским угощением в ладони. Кто-то тряс его за рукав, кто-то заглянул в глаза, но торчали там лишь бессмысленные белки. Леденец, вырезанный сердечком, розово играл в корявой ямке ладони. Потом как бы трещина раздвоила лицо Кира, и обе половинки жестоко затёрлись одна об другую: он плакал. Тут же, невдалеке, стоял Филофей и усмешливо почёсывал тяжкую свою, увесистую, как деревянный ковш, челюсть.
Беда приблизилась вплотную, и уже не отвратить её стало от скита… Бывало, забредали повальные моры в округу; деревни лежали в бреду, и ни одно колесо не шумело по дороге: можно было отсидеться за частоколом. Бывали пожары; шли огненные потоки, клокотал дым едкий, а над несжатыми полями топотал в поганом плясе рыжий дед, соломенный огонь: можно было рыть канавы и тем одним ограничить место непотребного его веселия. Напала раз преждевременная весна; деревья распустились до срока, ручьи гремели вчетверо против обычного, бесилась птица в высоте, а монахи в дырявых лодках пускались к бабам в Макариху; двое и погибли в водопольи. Тогдашний Иов выписал музыкальный ящик; в час, когда потёмки бором идут, вставлял в него Иов хрусткое подобие железного блина, и блин побулькивал разные безгреховные напевы. Впоследствии сменял эту музыку Авенир на холст Ипату Лукиничу из Макарихи; служа в швейцарах у одной питерской баронессы, раз в год наезжал тот домой, выпивал, заводил музыку и благоговейно созерцал мелодическое вертенье блина. Набегала тучка, и прояснилось небо, и снова моталась жизнь, как нитка на веретено.