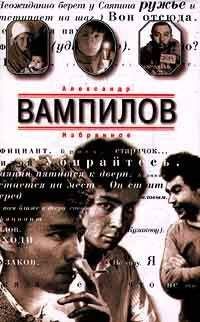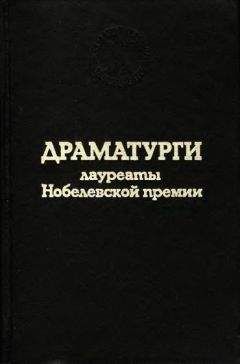Жан Ануй - Французская одноактная драматургия
Голос матери. Да примет бог их души!
Пауза.
Мишель (разгневанно). Что ты замолчал? Раз уж ты стал сам себе рассказывать жизнь Керноа, говори до конца.
Лан-Мария. Не могу. Потом началась ее жизнь, только ее. И я уверен — она меня слышит.
Голос матери. Да, слышу. Молчи!
Мишель (после минутного колебания подходит к парусу-пологу и берется за него рукой). Тогда продолжу я. Слушай, мать, если можешь. Тебе пора умереть, и пора, чтобы настал всему конец и берег обезлюдел. Твой муж и твои старшие сыновья погибли, ты не захотела отступить, как другие женщины, перед натиском западных волн. Раньше, мать, ты была такой красивой в белых расшитых повойниках, а теперь волосы твои висят спутанными космами. От весел задубели руки, и лицо постепенно потемнело от водяной пыли. С каждым годом все яростней ты направляла против ветра жалкий баркас. Мне не было еще двенадцати лет, когда ты взяла меня на борт вместо юнги, потому что прежний ушел в город. И с тех пор я скрепя сердце пашу это море, а во мне клокочет ненависть к черной живой воде. Еще ребенком я приходил в бешенство, видя клубящиеся водовороты. Я хватал палку и бил на песке пену прибоя. И взгляд мой отдыхал, только когда, повернувшись спиной к разъяренному морю, я смотрел на далекие шпили колоколен. Мать, почему ты меня держала здесь на цепи?
Голос матери. Потому что место Кериоа здесь.
Мишель. Моя настоящая жизнь еще не началась. Я жду, когда умрет эта старая женщина, чтобы уйти в края, где о ветре узнаешь только по шелесту листвы, где волны — это овсяное поле в грозу, где горизонт — не линия, а сиреневый холм, с которого вечером спускается стадо. Понимаешь?
Лан-Мария. Не кори мать. Дай ей умереть.
Мишель. А кто ее корит? Я требую от нее вслух того, о чем мои глаза просили ее двадцать лет. Двадцать лет беспрекословного повиновения, как завещали наши предки. Но семнадцать дней назад она свалилась на дно баркаса, вытаскивая сеть. Когда мы причалили, ноги ее подкашивались, и я принес ее сюда. А теперь она не хочет умирать. Не хочет освободить меня. Почему? Я не заработал своей свободы?
Лан-Мария. Уходи!
Мишель. Ты же знаешь: я не могу. Я должен отдать ей последний долг. Когда она умрет, я отнесу ее в баркас и в открытом море опущу тело на то кладбище, где уже ждут ее мужчины. Я дал слово и сдержу его.
Лан-Мария. Я это сделаю. Я старший.
Мишель. Нет. Здесь у каждого своя ноша, и я свою не переложу ни на чьи плечи. Впрочем, ты так слаб, что не справишься с баркасом.
Лан-Мария. Знаешь, какое обещание она с меня взяла?
Мишель. Я никогда не касался того, что было между вами.
Лан-Мария. Я дал слово, что в день ее смерти, повернувшись к морю спиной, я пойду вперед, как можно дальше от соленых волн.
Мишель (удивленно). Это разумно. Мы уйдем вместе.
Лан-Мария. Нет. Она сказала, что ты должен остаться, потому что всегда один из нас должен стоять к ветру лицом. Честь Керноа держаться до конца.
Голос матери. Да. Это так. Честь. Я всегда это слышала. И повторяла за другими Керноа.
Мишель. Семья погибла. На нас закончатся Керноа.
Лан-Мария (вставая). Мишель, не говори пустых слов. Позволь мне, мать, я расскажу, какая ты была женщина. В день, когда мне исполнилось шесть лет, я лежал на утесе и ждал возвращения баркаса. Вдруг почва ушла из-под меня. Подмытая морем скала рухнула и разбилась о прибрежные камни. В водорослях люди подобрали тело, распластанное, как морская звезда. Но жгла меня не боль в перебитых костях, а сознание того, что никогда, никогда я не поведу отцовский баркас!
Голос матери. Лан-Мария!
Мишель. Перестань, Лан-Мария, это старая история.
Лан-Мария. Это моя единственная история. Через несколько дней, когда я в лихорадке боролся со смертью, я услышал с моего одра, как мать испустила глубокий вздох — вздох облегчения. Она тоже поняла.
Голос матери. Надо ему все сказать, Лан-Мария, все.
Мишель (колеблясь). Что она поняла?
Лан-Мария. Что я никогда не поведу отцовский баркас.
Мишель. Но…
Лан-Мария. Постой! Прошло несколько лет, и однажды мать надела свой самый красивый повойник и ушла к городским стенам. Когда она вернулась, глаза ее светились и она сказала, что сапожник согласен взять меня в ученье. Считается ведь, что хромые — лучшие сапожники.
Мишель. Керноа — сапожник! И мать этого хотела?
Лан-Мария. Она, Мари-Жанна Керноа, таяла от счастья при мысли, что один из ее детей будет вгонять гвозди в подметки! Он жил бы в деревенском домике, рядом с кладбищем, где мертвецам открывала объятия земля, а не клокочущие волны. Может быть, в старости она стала бы вести мое хозяйство. Всю ночь она молила меня об этом.
Мишель. Напрасно?
Лан-Мария. Напрасно.
Голос матери. Это правда, Мишель. Прости меня. Он калека, у меня было право спасти его. Ты силач, тебя я приношу в жертву. Могла ли я поступить иначе?
Мишель. Такой матери я не знал. Когда она открывала рот, то говорила о баркасе, о веслах, о парусах или сетях.
Лан-Мария. Ты всегда был мужчиной. Мужчинам не открывают сердец. А я для матери всегда оставался ребенком. Она знала, что всю мою жизнь я буду чувствовать под ногами только твердую землю.
Мишель. Почему я должен тебе верить?
Лан-Мария. Да, мать. Ты была, как и другие, бедной женщиной, в глубине своей души всегда охваченной тревогой. Но ты вышла замуж за Керноа и взвалила на свои плечи их жребий, когда пошли ко дну твой муж и трое старших сыновей. Таков наш обычай. Твой долг был обучить ремеслу моряка того единственного, кто остался.
Голос матери. Такова воля отца.
Мишель. Я не хотел. Я всегда проклинал эту жизнь.
Лан-Мария. Вот именно. И все, что ты знаешь о силе ветра, подводных рифах, парусах, о секретах рыбной ловли, она вложила в тебя насильно. И она оставалась у руля, пока держалась на ногах. Чтобы ты не сдался.
Мишель. Я сдамся. Я уведу тебя на восток. Мы будем первыми из нашей породы, кого похоронят в гробах. Разве это позорно?
Лан-Мария. Ты уйдешь один. Я не смогу. Я не захотел стать сапожником. Я весь скрючен, я не могу налечь на весла, но во мне живет дух Керноа. Я не могу покинуть берег. Я не могу жить без шума прибоя. И кроме того, когда мать умрет, хозяином останусь я, потому что я старший. И может быть, я сумею управиться с баркасом. Если нет, тогда пойду на дно вместе с ним.
Голос матери. Нет-нет, Лан-Мария, не ты! Я не хочу!
Мишель. Тебе стыдно за меня?
Лан-Мария. Нет, малыш, мне за тебя не стыдно. К земле толкает тебя не трусость, а ярость и бессилие, и, как ты сказал, ненависть. Ты тоже из нашей породы. Берегись же. Ненависть привязывает сильнее, чем любовь. Ты убежишь в долины, быть может, но там тебя сгложет тоска.
Голос матери. Это правда?
Мишель (неуверенно). Все гораздо серьезней. Уже давно я не верю в то, что мы, Керноа, как сторожевые псы, должны стеречь море, в то, что мы сведем с ним вечные счеты. Послушай, я все тебе скажу.
Голос матери. Послушай его, сын мой! Я тоже хочу узнать.
Лан-Мария (быстро). Нет. Оставь при себе свои мысли. Ты надеешься что-то изменить? Что? Я остаюсь. Я морской Керноа. Эта мельница — мой корабль. Когда поднимается ветер, ее суставы трещат, крылья просят парусов и вал поворачивается, как руль. И правлю им я, я, который не сдался. Я — настоящий моряк.
Голос матери. Увы!
Мишель (взволнованно). Ты моряк, Лан-Мария.
Лан-Мария (приходя в себя). Нет, я — пустое место. Мешок с костями, береговая крыса, едва годный на то, чтобы чинить сети, забрасывать которые будут другие. Как баба, я варю суп и убираю дом. Моя мать знает, что у меня не хватит сил выстоять против ветра. И умереть она не может от двойного страха: оттого, что ты забросишь пашню Керноа, и оттого, что на нее выйду я, потому что моя погибель предрешена еще до того, как парус взовьется на вершину мачты!
Голос матери. Лан-Мария, ты читаешь в моем сердце лучше меня самой. И, наверно, уже давно. У калек есть этот дар.
Мишель (прислушиваясь). Ты ничего не слышишь?
Лан-Мария. Лайды стонут. Поднимется ветер.
Мишель. Уже семнадцать дней воздух неподвижен.
Лан-Мария. Смерть близка. Она на крыльях ветра. Пойду посмотрю, что делается в небесах. И если все готово, я натяну полотна на крылья, все полотна, какие есть, и пусть улетит в небо ветряк, если его сорвет. Наша мать должна умереть, как умирают моряки, и черный оргн бури должен выть над ее кончиной. (Поднимается по каменным ступеням башни в то время, как слышен голос матери.)