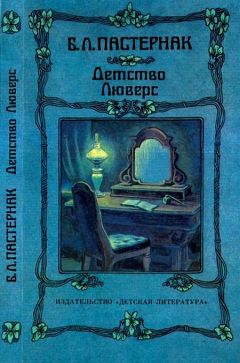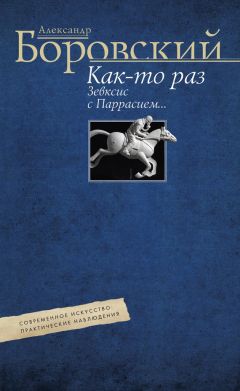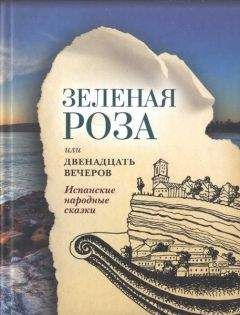Борис Пастернак - Люди и положения (сборник)
Однако я едва держался на ногах, и первое, что обещал себе по прибытьи в Венецию, так это основательно отоспаться.
13
Когда я вышел из вокзального зданья с провинциальным навесом в каком-то акцизно-таможенном стиле, что-то плавное тихо скользнуло мне под ноги. Что-то злокачественно-темное, как помои, и тронутое двумя-тремя блестками звезд. Оно почти неразличимо опускалось и подымалось и было похоже на почерневшую от времени живопись в качающейся раме. Я не сразу понял, что это изображенье Венеции и есть Венеция, Что я – в ней, что это не снится мне.
Привокзальный канал слепой кишкой уходил за угол, к дальнейшим чудесам этой плавучей галереи на клоаке. Я поспешил к стоянке дешевых пароходиков, заменяющих тут трамвай.
Катер потел и задыхался, утирал нос и захлебывался, и тою же невозмутимой гладью, по которой тащились его затонувшие усы, плыли по полукругу, постепенно от нас отставая, дворцы Большого канала. Их зовут дворцами и могли бы звать чертогами, но все равно никакие слова не могут дать понятья о коврах из цветного мрамора, отвесно спущенных в ночную лагуну, как на арену средневекового турнира.
Есть особый елочный восток, восток прерафаэлитов. Есть представленье о звездной ночи по легенде о поклоненьи волхвов. Есть извечный рождественский рельеф: забрызганная синим парафином поверхность золоченого грецкого ореха. Есть слова: халва и Халдея, маги и магний, Индия и индиго. К ним надо отнести и колорит ночной Венеции и ее водных отражений.
Как бы для того, чтобы тем прочней утвердить в русском ухе его ореховую гамму, на катере, пристающем то к одному берегу, то к другому, выкрикивают к сведенью едущих: «Fondaco dei Turchi! Fondaco dei Tedeschi!» [32] . Но, разумеется, названья кварталов ничего общего с фундуками не имеют, а заключают воспоминанья о караван-сараях, когда-то основанных тут турецкими и немецкими купцами.
Я не помню, перед каким именно из этих бесчисленных Вендраминов, Гримани, Корнеров, Фоскари и Лореданов увидел я первую, или первую поразившую меня, гондолу. Но это было уже по ту сторону Риальто. Она бесшумно вышла на канал из бокового проулка и, легши наперерез, стала чалить к ближайшему дворцовому порталу. Ее как бы подали со двора на парадное на круглой брюшине медленно выкатившейся волны. За ней осталась темная расселина, полная дохлых крыс и пляшущих арбузных корок. Перед ней разбежалось лунное безлюдье широкой водной мостовой. Она была по-женски огромна, как огромно все, что совершенно по форме и несоизмеримо с местом, занимаемым телом в пространстве. Ее светлая гребенчатая алебарда легко летела по небу, высоко несомая круглым затылком волны. С той же легкостью бежал по звездам черный силуэт гондольера. А клобучок кабины пропадал, как бы вдавленный в воду в седловине между кормой и носом.
Уже и раньше, по рассказам Г-ва о Венеции, я рассудил, что всего лучше будет поселиться в районе близ Академии. Тут я и высадился. Не помню, перешел ли я по мосту на левый берег или остался на правом. Помню крошечную площадь. Ее обступали такие же дворцы, что и на канале, только серее и строже. И они упирались в сушу.
На залитой луной площади стояли, прохаживались и полулежали люди. Их было немного, и они точно ее драпирировали движущимися, малоподвижными и неподвижными телами. Был необыкновенно тихий вечер. Мне бросилась в глаза одна пара. Не поворачивая друг ко другу голов и наслаждаясь обоюдным отмалчиваньем, они напряженно всматривались в противобережную даль. Вероятно, это была отдыхавшая прислуга палаццо. Сперва меня привлекла спокойная осанка лакея, его стриженая проседь, серый цвет его куртки. В них было что-то неитальянское. От них веяло севером. Затем я увидал его лицо. Оно показалось мне когда-то уже виденным, и только я не мог вспомнить, где это было.
Подойдя к нему с чемоданом, я выложил ему свою заботу о пристанище на несуществующем наречьи, сложившемся у меня после былых попыток почитать Данте в оригинале. Он вежливо меня выслушал, задумался и о чем-то спросил стоявшую рядом горничную. Та отрицательно покачала головой. Он вынул часы с крышкой, поглядел время, защелкнул, сунул в жилет и, не выходя из задумчивости, наклоном головы пригласил следовать за собою. Мы загнули из-за залитого луною фасада за угол, где был полный мрак.
Мы шли по каменным переулочкам не шире квартирных коридоров. От времени до времени они подымали нас на короткие мосты из горбатого камня. Тогда по обе руки вытягивались грязные рукава лагуны, где вода стояла в такой тесноте, что казалась персидским ковром в трубчатом свертке, едва втиснутым на дно кривого ящика.
По горбатым мостам проходили встречные, и задолго до ее появленья о приближении венецианки предупреждал частый стук ее туфель по каменным лещадкам квартала.
В высоте поперек черных, как деготь, щелей, по которым мы блуждали, светлело ночное небо, и все куда-то уходило. Точно по всему Млечному Пути тянул пух семенившегося одуванчика, и, будто ради того лишь, чтобы пропустить колонну-другую этого движущегося света, расступались порою переулки, образуя площади и перекрестки. И, удивляясь странной знакомости своего спутника, я беседовал с ним на несуществующем наречьи и переваливался из дегтя в пух, из пуха в деготь, ища с его помощью наидешевейшего ночлега.
Но на набережных, у выходов к широкой воде, царили другие краски, и тишину сменяла сутолока. На прибывавших и отходивших катерах толпилась публика, и масленисто-черная вода вспыхивала снежной пылью, как битый мрамор, разламываясь в ступках жарко работавших или круто застопоривавших машин. А по соседству с ее клокотаньем ярко жужжали горелки в палатках фруктовщиков, работали языки и толклись и прыгали фрукты в бестолковых столбах каких-то недоварившихся компотов.
В одной из ресторанных судомоен у берега нам дали полезную справку. Указанный адрес возвращал к началу нашего странствия. Направляясь туда, мы проделали весь наш путь в обратном порядке. Так что когда провожатый водворил меня в одной из гостиниц близ Campo Morosini, у меня сложилось такое чувство, будто я только что пересек расстоянье, равное звездному небу Венеции, в направлении, встречном его движенью. Если бы у меня тогда спросили, что такое Венеция, – «Светлые ночи, – сказал бы я, – крошечные площади и спокойные люди, кажущиеся странно знакомыми».
14
«Ну-с, дружище, – громко, как глухому, прорычал мне хозяин, крепкий старик лет шестидесяти в расстегнутой грязной рубахе, – я вас устрою, как родного». Он налился кровью, смерил меня взглядом исподлобья и, заложив руки за пряжки подтяжек, забарабанил пальцами по волосатой груди. «Хотите холодной телятины?» – не смягчая взгляда, рявкнул он, не сделав никакого вывода из моего ответа.
Вероятно, это был добряк, корчивший из себя страшилище, с усами à la Radetzki [33] . Он помнил австрийское владычество и, как вскоре обнаружилось, немного говорил по-немецки. Но так как язык этот представлялся ему языком унтеров-далматинцев по преимуществу, то мое беглое произношенье навело его на грустные мысли о паденьи немецкого языка со времени его солдатчины. Кроме того, у него, вероятно, была изжога.
Поднявшись, как на стременах, из-за стойки, он кровожадно куда-то что-то проорал и пружинисто спустился во дворик, где протекало наше ознакомленье. Там стояло несколько столиков под грязными скатертями. «Я сразу почувствовал к вам расположенье, как только вы вошли», – злорадно процедил он, движеньем руки пригласив меня присесть, и опустился на стул стола через два или три от меня. Мне принесли пива и мяса.
Дворик служил обеденным залом. Стояльцы, если тут какие имелись, давно, верно, отужинали и разбрелись на покой, и только в самом углу, обжорной арены отсиживался плюгавый старичок, во всем угодливо поддакивавший хозяину, когда тот к нему обращался.
Уплетая телятину, я уже раз или два обратил вниманье на странные исчезновенья и возвращения на тарелку ее влажно-розовых ломтей. Видимо, я впадал в дремоту. У меня слипались веки.
Вдруг, как в сказке, у стола выросла милая сухонькая старушка, и хозяин кратко поставил ее в известность о своей свирепой приязни ко мне, вслед за чем, куда-то поднявшись вместе с нею по узкой лестнице, я остался один, нащупал постель и без дальних размышлений лег в нее, раздевшись в потемках.
Я проснулся ярким солнечным утром, после десяти часов стремительного, беспрерывного сна. Небылица подтверждалась. Я находился в Венеции. Зайчики, светлой мелюзгой роившиеся на потолке, как в каюте речного парохода, говорили об этом и о том, что я сейчас встану и побегу ее осматривать.
Я оглядел помещение, в котором лежал. На гвоздях, вбитых в крашеную перегородку, висели юбки и кофты, перяная метелка на колечке, колотушка, плетеньем зацепленная за гвоздь.
Подоконник был загроможден мазями в жестянках. В коробке из-под конфет лежал неочищенный мел.
За занавеской, протянутой во всю ширину чердака, слышался стук и шелест сапожной щетки. Он слышался уже давно. Это, верно, чистили обувь на всю гостиницу. К шуму примешивались женское шушуканье и детский шепот. В шушукавшей женщине я узнал свою вчерашнюю старушку.