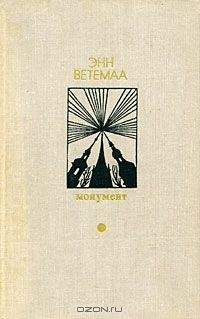Энн Ветемаа - О головах
За городом на поляне он усаживает своих друзей под большим деревом, а сам принимается копать землю у камня.
«Что ты там делаешь, наш брат и учитель?» — спрашивают четыре жреца.
Мой повар — ВРЕМЯ — славно постарался!
Друзья, я выкопаю из земли
Бессмертьем фаршированные яйца —
Такого не едали короли!
Так откупорьте же напиток быстротечный,
Вновь обретенным радуясь годам![12]
И вот они вкушают восхитительнейшее яичное блюдо. Каждому достается по одному яйцу, приготовленному самим ВРЕМЕНЕМ. Они сидят под голубым небом и в порыве благодарности обращают ввысь свои честные глаза.
«Все мои начинания увенчивались успехом», — тихо произносит хозяин пира, складывает на груди руки, затем, тихо и мелодично рыгнув, отправляется… на тот свет.
18
Когда мне принесли градусник, я еще спал тяжелым сном. Я взглянул на дежурную сестру сквозь полуопущенные веки, и мне почудилось, что ее лицо из гипса. Оно показалось мне таким леденяще-белым, что я тут же закрыл глаза. Но холодный овал уже крепко впечатался в сетчатку моего глаза и продолжал существовать под закрытыми веками. Единым взмахом ресниц мои глаза вобрали тонкую алую черточку, пробегающую поперек гипсовой маски, — словно наклеенная на нее полоска блестящей бумаги, — рот сестры.
Холодное стекло жалило меня. Градусник, словно яйцеклад наездника, отложил в темной куще моей подмышки сияющую капельку ртути. Зерно это прорастет в тепле моего тела и даст хрупкий, тонкий, как ниточка, росток. Он поползет вверх по капилляру; мое воображение уже нарисовало, как на верхушке его созревает бутон, набухает, и ртутный цветок раскрывается подобно вспышке холодного синего света, ослепительно озарив потускневшую гипсовую маску и алую полоску рта. Я открыл глаза и вытряхнул обратно в реальный мир это назойливое, тягостное видение.
В комнате было прохладно. Я встал и подошел к окну. Передвигался я без труда, только ноги казались ватными: я должен ступать аккуратно и по прямой линии — иначе они прогнутся.
Окружающий мир казался ярким и холодным. По расцветке он напоминал переводные картинки, которые дети переводят на свои тетрадные обложки. За ночь поднялся ветер; железная кровля скрипела, ветер гнал по дорожке мелкий белый песок. Сегодня, наверно, и не стоит выходить — этот песок забирается в рот и скрипит на зубах.
У покойницкой стоял грузовик, капот у него был казарменно-синего цвета. Вокруг машины суетились люди, одетые в черное. Ветер трепал полы их пальто.
Я снова прилег и, когда сестра забрала градусник, сказав, что у меня пониженная температура, закрыл глаза. За глазным яблоком есть такое место, где тепло, влажно и темно, — подумал я. Я провалился в сон — колодец сна тоже был теплый и влажный.
Меня разбудил стук в дверь. Я не ответил, постучали снова, дверная ручка тихонько опустилась, и в дверь заглянуло широкое лицо Леопольда.
— Вы спите… Нет, не вставайте! Я на минутку.
Не ожидая ответа, он сел на стул.
Леопольд прихватил с собой папку для рисования. «Хочет показать свои новые картины», — догадался я. Вдруг мне вспомнился старик-ижорец, и я понял, что мне придется встать, — ведь у меня не было для выплевывания косточек вишни.
— Наверно, я долго спал. Который час? Десять?
Я сел в кровати.
— Половина двенадцатого, — почему-то победно сказал Леопольд.
Я заметил, что он листает мою коричневую тетрадь.
— Да, муза изящной словесности обошла стороной мою колыбель, — сказал Леопольд, резко захлопывая тетрадь. — Как говорится, она не благословила меня своим поцелуем, но я и не горюю.
Я чувствовал слабость в ногах, а под сердцем пульсировала какая-то странная пустота. Нащупывая под кроватью голой ногой сандалию, я взглянул на свою ногу, — большущая и желтая, она казалась мне инородным телом. Движения ее не подчинялись моей воле; нога будто жила своей жизнью; пальцы согнулись и, подцепив сандалию за верхний ремешок, подтянули ее поближе; затем большая и чужая нога неуклюже, но старательно заползла в свою нору, выставив наружу желтую, рыхлую пятку.
Леопольд все еще разглагольствовал насчет поцелуя музы, но я заметил, что и он с интересом смотрит на мою ногу.
— Ну и желтая, — сказал он даже как-то уважительно. — Я хотел вам тут кое-что показать.
Он вытащил две картины и положил их рядом со мной на одеяло.
— Что скажете? А?
Я разглядывал картины и никак не мог понять, чем они отличаются от предыдущих: покойницкая та же, деревья те же, да и с небом не произошло никаких изменений. На всякий случай я по одной перебрал верхушки деревьев — вдруг там притаилась какая-нибудь новая птица?
— Я так и знал, что вам понравится, — сказал Леопольд, хотя я еще ни единым словом не выразил своего одобрения.
— Не правда ли, здесь вся соль — в двери. Подтекст! Как это принято называть в мире художников.
Неожиданно он вскочил со стула и почему-то на цыпочках направился к двери.
— Я их вам дарю. Ухожу — не хочу мешать вам рассматривать их…
Дверь закрылась. С дверной ручкой он был опять осторожен — она медленно пришла в исходное положение и тихо щелкнула. Но я не услышал удаляющихся шагов Леопольда. Может, он и не ушел? Может, стоит за дверью, прильнув к замочной скважине, весь превратившись в слух.
Только теперь я понял, в чем дело: конечно, эти две картины отличались от предыдущих. Леопольд нарисовал дверь покойницкой открытой, на обеих картинах она была распахнута настежь, темная, изнутри обшитая жестью, дверь эта напоминала подбитое крыло большой черной птицы.
19
Болит голова. Как все это глупо: покойницкая Леопольда и мои пять яиц, — пять козырей, которыми я прошлой ночью надеялся обыграть судьбу. Клоунада, и только.
Ну и пусть клоунада. У меня еще хватает сил и упрямства. Я подхожу к столу, чтобы продолжить свои записи. Ноги все еще ватные, но это ощущение не такое уж и противное.
Итак, игра продолжается. Должна продолжаться!
Вчера мы здорово захмелели от малой толики коньяка; мы — это я и мой дорогой рак, которого я ношу под сердцем. Мы оба давненько не пьянствовали; одну бутылочку я выпил за свое здоровье, другую — за его; мы пили на брудершафт.
«Господа, очиним перья, — сказал когда-то лицеистам учитель словесности в Царском Селе, — очиним перья и опишем розу в стихах!» Если и мне попытаться описать свой рак? Между прочим, мой рак сегодня неважно себя чувствует, он вообще на своем веку редко сталкивался с алкоголем, чего я не могу сказать про себя. В дни студенчества я вводил в себя спиртное в немалых дозах. Но моего рака тогда еще не было. Выходит, что он не имеет и высшего образования. Таким образом, у нас весьма ощутимая разница в степени интеллигентности, но я не делаю из этого номера…
Я не уверен, достоверны ли краски в моем старом анатомическом атласе (автор: др. мед. И. Соботта из Вюрцбурга), уж слишком они красивы. Раскрытая брюшная полость подана Соботтой так, словно это набор деликатесов: кремово-желтых, розовых, как лосось, пунцовых, как помидор; цвета эти так хороши, что их можно использовать в качестве кремов на торты.
Я рискнул бы взять желтый цвет, рафаэлевский, тускло-желтый, и нарисовал бы в верхней части полотна два выпуклых элегантных полумесяца, хотя эти надпочечники glandulaesuprarenales немного отличаются от полумесяца; скорее они напоминают сморщенные, выдохшиеся воздушные шары; тем не менее в своей расплывчатости они обладают определенной формой и объемностью. В настоящее время я, правда, могу похвастать лишь одной glandula, но нарисовал бы я их обе — так красивее. Особенно тщательно придется отработать светотень, так как фактура надпочечников в меру, со вкусом, шероховата. Неплохо бы один надпочечник показать в разрезе: для чувствительной, артистичной кисти огромное удовольствие доставил бы корковый слой, особенно zona reticularis — сетчатая зона, — она прямо создана для демонстрации виртуозности. Или можно воспроизвести богатейшие переплетения тяжей, параллельных, радиальных: как они то свободно извиваются, то закручиваются в пружину, это очень нежная и тонкая соединительная ткань, которая образует более толстые, соединенные с оболочкой органа трабекулы, а также тончайшие межуточные ткани, отделяющие друг от друга группы железистых клеток. Все это в конечном итоге должно вылиться в нечто геометрическое, изысканное, филигранное, ласкающее взор.
Затем с этих рафинированно-сдержанных тонов можно перейти к темно-красному — весьма алчному и недвусмысленному. Итак, мы дошли до мозгового слоя — substantia medullaris. Этому красному цвету, интенсивному и звенящему, я придал бы жизненной силы и обаяния; на мозговой слой я могу полностью положиться; кроме того, это красное вещество для меня не так уж важно: вырабатываемые в нем продукты тонкой химии я могу купить в любой аптеке в виде адреналина. Этот красный цвет явится самой жизнеутверждающей и оптимистической частью моего пейзажа; если скоро Маргит придется подавать мне руку, чтобы помочь спуститься по воображаемой лестнице во тьму, — я уже как-то писал об этом образно и красиво, — то мозговой слой тут ни при чем.