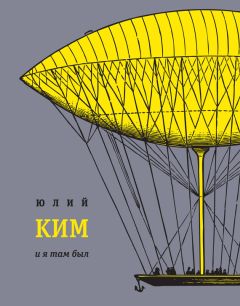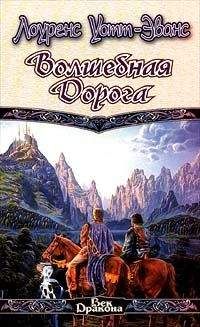Юлий Ким - Светло, синё, разнообразно… (сборник)
– Что-то я не помню у Розанова подобной пошлости, – хмыкнул Ерофеев. – «Бабушку в окошке» я, так и быть, уберу. Без должной практики ты, пожалуй, промажешь, а это она сочла бы оскорблением для себя. Пожалуй, выставлю-ка я «Заседание Государственного Совета». Его все вышибают без подготовки.
– Веня, мы торопимся, – Коваль перехватил биту у Михайлова. – Забежали поздороваться, и айда. Давай-ка мою любимую. Да мы и пойдем.
– В таком случае «Иван Грозный убивает своего сына»! – провозгласил Веня, и на городошном поле мгновенно воздвиглась Грановитая палата в озарении шандалов, по ней заметался в золотом кафтане несчастный царевич. А из мрачной глубины в черной рясе, вытаращив налитые кровью буркалы, двинулся безумный вурдалак, его папаша, сжимая в кулаке остроконечный жезл, – но тут, вращаясь, как винт геликоптера, налетела на него бита, пущенная Ковалем, злобный старик рухнул на руки сына, и оба вылетели за границы видимости вместе с Грановитой палатой.
– Славный удар, – оценил Ерофеев. – Что значит лицеприятное отношение. Я точно так же выметаю «Выступление В. И. Ленина на заводе Михельсона», не дожидаясь выстрела бедной Фанни. Ну, заходите, как помоетесь, – помахал он ручкой, – хотя, конечно, кто же после бани ходит на городки?
– Вот, стало быть, куда ты ведешь старого друга после утомительного плавания, – обрадовался Михайлов.
– Я так подумал, это будет грамотно, – с достоинством отвечал Коваль, и они очутились в мраморном вестибюле, как и положено.
– Сандуны Экстра-Супер? – попытался Михайлов дать определение.
– Не торопись, Михалыч, – снисходительно сказал Коваль. – «Сандуны…» Что ты все торопишься… Начнем с музыки. Ну-ка, вспомни что-нибудь подходящее к случаю.
– Э-э… уточни, пожалуйста, – растерялся Михайлов.
– Какая тебе мерещится музыка при мысли о полной расслабухе?
– Прокофьев, «Классическая симфония», часть вторая, – немедленно откликнулся Михайлов и немедленно же услышал начало. Через пару тактов Коваль кивнул.
– Годится. Но хотелось бы то же самое услышать в аранжировке Франсиско Гойи, ты не против?
Тут в свою очередь кивнул и Михайлов. Симфония зазвучала в изложении двадцатичетырехструнной гитары. Это было божественно.
Вдруг мрамор под ними превратился в мягкий коверный ворс, и, оказалось, они идут босиком.
Вдруг небольшое облако окутало их, ковер ушел из-под ног, туман рассеялся, и они зависли в теплом воздухе, совершенно голые. Демонстрируя свою теннисную фигуру, Коваль мельком глянул на михайловские складки и оползни и пробормотал:
– Ну ничего, ничего…
– Это, что ли, невесомость? – суетливо дергая ногами, спросил Михайлов.
– Она самая. Привыкай, – сказал Коваль, широко взмахнул руками и плавно взмыл. Михайлов в космосе не был, но во сне летал и помнил это счастливое ощущение с необыкновенной достоверностью. А поскольку происходящее и так напоминало волшебный сон, он недолго думая, сложил крылышки ласточкой и нырнул в теплую туманную пустоту, а там, скользнув по дуге, уверенно взлетел к Ковалю, свободно парящему в пространстве.
– Это счастье! – восторгался Михайлов, выписывая вокруг друга вензеля и курбеты. – Но это не Сандуны.
– Опять торопишься, – с упреком сказал Коваль. – Как все-таки людей гнетет сознание конечности бытия. И они все спешат, спешат… вместо того чтобы растягивать бытие до бесконечности. Сказано было тебе: «баня» – значит, будет тебе баня.
Тут Прокофьев кончился, повисло мягкое тремоло двадцати четырех струн, сквозь него началась, наросла и грянула «Аида», ослепив на миг многочисленной и разнообразной медью, а затем рассыпалась целым озером серебра. И пошел умирать от блаженства сен-сансовский лебедь в исполнении… в исполнении?
– Арфы, арфы, – пояснил Коваль. – Штук, наверно, сто. Всех сортов. От глубокого контральто до фистулы-колоратуры. Вот теперь – лови кайф.
Ибо вместе с лебедем пошли накатывать волны остальных ощущений. Это были зной и прохлада, сияние и полумгла, мед и горчица, ландыш и полынь. Упругий напор и пологий откат в гармонических сочетаниях и ансамблях.
Ныряя и выныривая, взмывая и паря, друзья плавно вошли в блаженный обморок и очнулись каждый ничком на мраморном ложе, как и положено.
Рядом с Ковалем сидел Лемпорт, обернутый в белую тогу, и поглаживал мощной дланью Юрину спину, готовя к массажу. Михайловскую спину тоже кто-то мягко заготавливал – лежа ничком, не видно было, кто.
– Здорово, Володя! – сердечно поприветствовал Михайлов великого скульптора. – Осваиваешь смежную профессию?
– Да вот, понимаешь, – поздоровавшись, сказал Лемпорт, – надоело с глиной возиться. Лепишь ее, лепишь, мнешь ее, мнешь, правильно, неправильно – она молчит, терпит, ей все равно. А тут – живой материал, чуть что не так (Коваль взвыл), он реагирует. И конечная цель, понимаешь, одна и та же: пластическое совершенство.
– По-моему, я и так пластически совершенен, – сказал Коваль.
– Ну, еще не модель, – похлопал его по заду Лемпорт, – но с тобой действительно мороки поменьше, чем с нашим гостем. У тебя я не вижу таких складок и оползней. Поэтому мое дело твою пластику поддерживать, а не творить. Творить будет мастер, я-то пока еще учусь.
Две уверенные властные ладони обмяли Михайлову торс и начали первые пассы, и до боли знакомый бархатный поставленный баритон повел над Михайловым лекцию в соответствии с манипуляциями.
– В нашем деле, Володя, главное открыть чакру, задействовать мантру, возбудить прану и очистить ауру. На первый взгляд, это просто бессмысленный набор разнородных терминов, но это лишь на первый взгляд.
– Александр Аркадьевич! – ахнул Михайлов, распознав голос любимого маэстро. – Ну ладно, Лемпорт скульптор, ему положено мять чего-нибудь руками, а вам-то зачем? Вон Визбор – лиру осваивает, арф кругом полно каких угодно…
– Дорогой мой, на кой хрен мне эти арфы, – засмеялся Галич, со вкусом выговаривая слово «хрен», – когда здесь и без меня хватает кифаредов, и все они играют на струнах, что уж скрывать, гораздо искуснее меня. А главное, мне совершенно не хочется этим заниматься. Муза моя свое дело сделала, и я уволил ее к чертовой матери. Иной раз соберутся ветераны, ну пойду, потрясу стариной перед ними часика на полтора, но здесь мне куда интереснее. Здесь, доложу я вам, такой роскошный шалман – а я, да будет вам известно, матерый шалманщик, – что и арф никаких не надо, все здесь так и гудит. Где бы я еще с Володей познакомился. А теперь нас водой не разольешь.
– В бане это и невозможно, – Лемпорт с удовольствием подоил свою красивую бороду. – В бане разливать людей водой, прямо скажем, противоестественно. Только обливать либо сливать воедино. Единственно, в чем мы с Аркадьичем расходимся – это во взгляде на мой перевод Дантова «Ада». Он считает его философской неудачей, а я – литературной. Ну почему? – возвысил голос Лемпорт. – Почему ты, Коваль, не остановил меня, когда я брался за этот проект?
Тут он прихватил Коваля за ребро, и тот заорал:
– Лемпорт, блин горелый, прекрати! Не пользуйся моим положением, садист! Как я мог тебя остановить, когда ты пер, как танк?
– Надо было бросаться под меня с гранатами!
– Да ты бы проехал и не заметил. Я удивляюсь, как это ты вообще прозрел? Уж не Александр ли Аркадьевич поднял тебе веки?
– Ты, Коваль, хотя и писатель (Лемпорт опять погладил бороду), но вряд ли читал сочинение Алигьери в подлиннике. В отличие от присутствующих. Я, понимаешь ли, итальянский выучил только за то, что им разговаривал Данте. И сразу увидел несовершенство всех наших переводов. Конечно, у меня зачесались руки! Меня охватило величие замысла! И ты меня не остановил.
Он снова ущипнул Коваля, но тот даже не заметил от возмущения.
– Побойся Бога, Лемпорт! – вскричал он. – За кого ты меня принимаешь? Я тебе не Бенкендорф, чтобы душить великие замыслы! Почему это я должен был тебя останавливать?
– Потому что величие моего замысла полагало наличие стихотворной техники, а она у меня никакая. И ты это скрыл от меня!
– Дружба для меня была дороже, – искренне сказал Коваль.
– Хороша дружба! – и Лемпорт зверски проутюжил ему кулаком позвоночник. – Сделал, понимаешь ли, из друга посмешище.
– Володь, – примирительно вмешался Михайлов, сладострастно постанывая под ладонями мастера. – Зато твои иллюстрации к переводу! Это же вершина графики! Симфония рисунка! Пикассо отдыхает, Неизвестный завидует. Так что не зря ты учил итальянский.
– И потом, Володенька, – зажурчал Галич, – уже за одно величие замысла вам надо бы в ножки поклониться. Обратите внимание, как далеко ушла техника стиха, в то время как замыслы поражают своей невзрачностью. Не хочется называть имен, но сегодня в поэзии я не вижу ничего, кроме необоснованных претензий. Ну да, ну да, – остановил он Михайловские возражения, – вы скажете «Миша Щербаков». Но этот одинокий дуб в пустыне российской словесности никак не делает общей погоды. Целковый с вас, барин, – обратился он к Михайлову, обмахнув полотенцем.