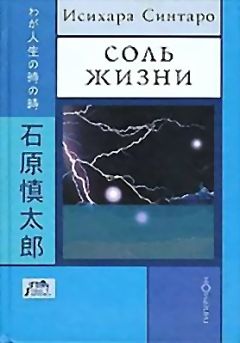Том Стоппард - До-ре-ми-фа-соль-ля-си-Ты-свободы-попроси
Учительница. Вот именно. А зачем играешь? Решил поддержать семейную традицию? Прокукарекать невпопад? Да твоя фамилия и так стала притчей во языцех. Ты об этом знаешь?
Саша. Да.
Учительница. Откуда?
Саша. Все говорят.
Учительница. Открой книгу.
Саша. Какую?
Учительница. Любую. Лучше «Отцы и дети». Саша достает из парты книгу. Это Тургенев?
Саша. Нет, учебник по геометрии.
Учительница. Да, представь, твоя фамилия уже облетела весь мир. С телеграфной скоростью. Пестрит во всех газетах. Склоняется по радио. С такой фамилией можно и не различать цвета. И музыку мы ради тебя перепишем. Вся партитура станет желтая, словно луг с одуванчиками, а звучать будет, как склянки на корабле: бери ложку, бери хлеб и садися за обед.
Саша. Я не хочу играть в оркестре.
Учительница. Открой книгу. Возьми бумагу и ручку. Ведь ты теперь знаешь, что бывает с антиобщественными элементами? С оппозиционерами?
Саша. Меня отправят в сумасшедший дом?
Учительница. Разумеется, нет. Читай вслух.
Саша. Точка имеет координаты, но не имеет размеров. Учительница. Психбольницы существуют для тех, кто не сознает, что творит.
Саша. Отрезок имеет длину, но не имеет ширины.
Учительница. Они осознают, что делают, но не понимают, что наносят вред обществу.
Саша. Прямая — это кратчайшее расстояние между двумя точками.
Учительница. Они осознают, что ведут себя антиобщественно, но они фанатики.
Саша. Окружность — геометрическое место точек плоскости, равноудаленных от заданной точки, называемой ее центром.
Учительница. Они больные.
Саша. Многоугольник — это плоская фигура, ограниченная прямыми линиями.
Учительница. И держат их не в тюрьме, а в больнице.
Пауза.
Саша. Треугольник — это многоугольник с наименьшим возможным количеством сторон.
Учительница. Замечательно. Прекрасно. Перепиши это десять раз, аккуратно, хорошим почерком, и, если ты будешь хорошо себя вести, я постараюсь пересадить тебя на другой инструмент.
Саша (пишет). Треугольник — это многоугольник с наименьшим возможным количеством сторон. Папу тоже заставляют это делать?
Учительница. Да. Он переписывает фразу: «Я играю в оркестре и не должен отбиваться от коллектива».
Саша. Сколько раз?
Учительница. Миллион.
Саша. Миллион?
Пауза.
(Кричит.) Папа!
Александр (кричит). Саша!
Кричит он во сне, на другом конце сцены. Иванов садится на койке, наблюдает за Александром. В паузах нижеследующего диалога оркестр берет отдельные аккорды.
Саша. Папа!
Учительница. Тсс!
Александр. Саша!
Музыка продолжает играть, в основном ударные. Это длится секунд десять, а потом все перекрывают резкие частые удары треугольника. Вскоре другие инструменты смолкают, остается только треугольник. Александр садится. Треугольник смолкает.
Камера
Иванов. Бери ложку, бери хлеб… (Оркестр.)
Кабинет
Иванов проходит в освещенный теперь кабинет и садится за стол. В оркестре один из музыкантов, из третьих скрипок, поднимается с места, спускается с оркестрового возвышения и также проходит в кабинет. Оркестр играет, и эта музыка пародирует движения скрипача. Иванов сидит за столом в кабинете. Скрипач превращается во Врача, подходит к столу и кладет на него скрипку. Оркестр все это время сопровождает его, и все его движения точно ложатся на музыку. Иванов вскакивает и кричит, словно бы обращаясь к оркестру.
Иванов. Ну все, довольно, довольно…
Музыка резко обрывается. Врач выжидающе смотрит на Иванова.
Иванов (Врачу). Простите.
Иванов садится. Врач также садится — смычковые аккомпанируют каждому движению. Иванов снова вскакивает.
Иванов (кричит). Я с вас семь шкур спущу!
Врач. Присядьте, пожалуйста.
Иванов (садится). Эти только ругань и понимают…
Врач. Как таблетки? Совсем не помогли?
Иванов. Не знаю. А какие таблетки вы им давали?
Врач. Послушайте, оркестра на самом деле нет. Никакое лечение не поможет, пока мы с вами не договоримся, что оркестра нет.
Иванов. Или, наоборот, есть.
Врач (ударяет по лежащей на столе скрипке). Оркестра нет!
Иванов косится на скрипку.
Врач. У меня есть оркестр, а у вас нет.
Иванов. Это, по-вашему, логично?
Врач. Такое уж стечение обстоятельств. Я музыкант-любитель. Иногда играю в оркестре. Хобби у меня такое. Мой оркестр настоящий. А у вас оркестра нет. Здесь вы — пациент. А я — врач. И раз я вам говорю, что оркестра у вас нет, значит — нет. Все логично…
Иванов. Я был бы счастлив не иметь оркестра.
Врач. Вот и славно.
Иванов. Я никогда не хотел иметь оркестр.
Врач. Отлично. Так и повторяйте: У меня нет оркестра. У меня никогда не было оркестра. Мне не нужен оркестр.
Иванов. Это верно.
Врач. У меня нет оркестра.
Иванов. Хорошо.
Врач. Отлично.
Иванов. Вы не могли бы сделать мне одолжение?
Врач. Какое?
Иванов. Скажите им, пусть перестанут играть.
Врач. Они перестанут играть, как только вы поймете, что их на самом деле нет.
Иванов встает.
Иванов. У меня нет оркестра.
Звучит один оркестровый аккорд.
Иванов. У меня никогда не было оркестра.
Звучат два аккорда.
Мне не нужен оркестр.
Звучат три аккорда.
Нет никакого оркестра.
Оркестр играет — бравурно и громко. Свет в кабинете гаснет. Освещается камера.
Камера
Все это время Александр спит на своей койке в камере. Возвращается Иванов. Берет палочку от треугольника. Встает около спящего Александра, смотрит на него. Музыка становится тревожной. Потом жуткой. Это кошмарный сон Александра. Музыкальная тема приближается к апофеозу. Но тут Александр вскидывается, просыпается, и музыка обрывается на полутакте. Тишина.
Иванов. Простите. Никакой на них нет управы.
Александр. Ну пожалуйста…
Иванов. Не беспокойтесь, я знаю, как себя вести. Трубачи у меня тут же получают по зубам, скрипачи — по морде, ботинком, вот этим самым. А уж виолончелистам вообще не позавидуешь. Вы на каком инструменте играете?
Александр. Ни на каком.
Иванов: Тогда не тревожьтесь. Расскажите лучше о своем детстве, о семье, о первой учительнице музыки. Как это все начиналось?
Речь Александра должна сопровождаться особым светом и музыкой — это сольная партия.
Александр. Однажды моего друга арестовали за хранение запрещенной книги и продержали в психбольницах полтора года. Мне это показалось странным. Потом, когда его выпустили, арестовали двух писателей, А и Б, которые опубликовали за границей какие-то рассказы, под псевдонимами. За это они, уже под своими настоящими именами, получили один пять, а другой семь лет принудительных трудовых лагерей. Мне это показалось совсем странным. Мой друг В пошел на демонстрацию, протестовать против ареста А и Б. Я его предупреждал, что это безумие, но он не послушался и снова угодил в психушку. Еще один человек, Г, написал кучу писем с описанием суда над А и Б и обсуждал этот суд со своими друзьями, Д, Е, Ж и 3. Их всех арестовали. Тогда И, К, Л, М и еще один, пятый, человек стали протестовать против ареста Д, Е, Ж и 3. Их тоже арестовали. На следующий день забрали и Г. Кстати, пятым был мой друг В, который на тот момент только вышел из психушки, куда его упекли за участие в демонстрации против ареста А и Б. Я и на этот раз его предупреждал, что протестовать против ареста Д, Е, Ж и 3 — чистое безумие. Он получил три года лагерей. Мне это показалось ну совсем несправедливым. Еще один человек, Н, составил книгу по материалам судов над В, И, К, Л и М и вместе с коллегами О, П, Р, С, Т присутствовал на суде над У, который написал воспоминания о своем лагерном сроке, за что получил еще год. На суде выяснилось, что советская армия в 1968 году пришла на помощь дружественной Чехословакии. На следующий день Н, О, П, Р, С и Т решили выйти на Красную площадь. Тут их всех арестовали и отправили — кого в лагерь, кого в психушку, кого в ссылку. Это было в семьдесят первом, после ареста А и Б прошло три года. Срок моего друга В истек одновременно со сроком писателя А. И тут он учудил. Выйдя на свободу, он начал всем рассказывать, что психически здоровых людей отправляют в сумасшедший дом за политику, за несогласие с режимом. Когда выпустили писателя Б, на моего друга В уже снова открыли дело. Его осудили за антисоветскую агитацию и клевету. Приговор — семь лет тюрьмы и лагерей, потом еще пять — ссылки. Видите, сколько вреда от этих писателей.