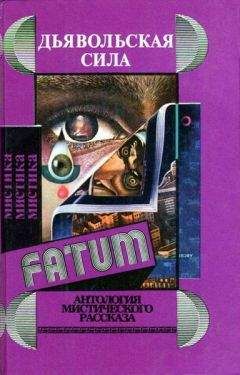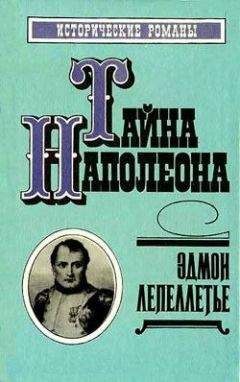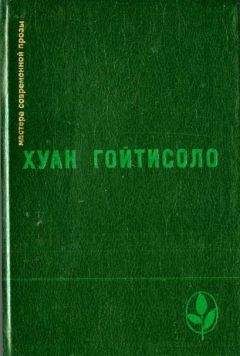Иоганн Гете - Фауст
Все это так, разумеется. Но в конечном счете выбор героя был подсказан самим идейным содержанием драматического замысла: Гете в равной мере не удовлетворяло ни пребывание в сфере абстрактной символики («Прометей»), ни ограничение своей поэтической и вместе философской мысли узкими и обязывающими рамками определенной исторической эпохи («Сократ», «Цезарь»). Он искал и видел мировую историю не только в прошлом человечества. Ее смысл ему открывался и им выводился из всего прошлого и настоящего; а вместе со смыслом усматривалась и намечалась поэтом также и историческая цель, единственно достойная человечества. «Фауст» не столько драма о прошлой, сколько о грядущей человеческой истории, как она представлялась Гете, о том будущем, которым, по его убеждению, была беременна современность.
Сама эпоха, в которой жил и действовал исторический Фауст, отошла в прошлое. Гете мог ее обозреть как некое целое, мог проникнуться духом ее культуры — страстными религиозно-политическими проповедями Томаса Мюнцера, эпически мощным языком Лютеровой Библии, задорными и грузными стихами умного простолюдина Ганса Сакса, скорбной исповедью рыцаря Геца. Но то, против чего восставали народные массы в ту отдаленную эпоху, еще далеко не исчезло с лица немецкой земли: сохранилась былая, феодально раздробленная Германия; сохранилась (вплоть до 1806 года) Священная Римская империя германской нации, по старым законам которой вершился неправедный суд во всех немецких землях; наконец, как и тогда, существовало глухое недовольство народа, — правда, на этот раз не разразившееся живительной революционной грозой.
Гетевский «Фауст» — глубоко национальная драма. Национален уже самый душевный конфликт ее героя, строптивого Фауста, восставшего против прозябания в гнусной немецкой действительности во имя свободы действия и мысли. Таковы были стремления не только людей мятежного XVI века; те же мечты владели сознанием и всего поколения «бури и натиска», вместе с которым Гете выступил на литературном поприще.
Но именно потому, что народные массы в современной Гете Германии были бессильны порвать феодальные путы, «снять» личную трагедию немецкого человека заодно с общей трагедией немецкого народа, поэт должен был тем зорче присматриваться к делам и думам других, более активных, более передовых народов. В этом смысле и по этой причине в «Фаусте» речь идет не об одной только Германии, а в конечном счете и обо всем человечестве, призванном преобразить мир совместным свободным и разумным трудом. Белинский был в равной мере прав и когда утверждал, что «Фауст» есть полное отражение всей жизни современного ему немецкого общества»[4], и когда говорил, что в этой трагедии «заключены все нравственные вопросы, какие только могут возникнуть в грудивнутреннего человека нашего времени…»[5]2. (Курсив наш. — Н. В.)
Гете начал работать над «Фаустом» с дерзновением гения. Сама тема «Фауста» — драма об истории человечества, о цели человеческой истории — была ему, во всем ее объеме, еще неясна, и все же он брался за нее в расчете на то, что на полпути история нагонит его замысел. Гете полагался здесь на прямое сотрудничество с «гением века». Как жители песчаной, кремнистой страны умно и ревностно направляют в свои водоемы каждый просочившийся ручеек, всю скупую подпочвенную влагу, так Гете на протяжении долгого жизненного пути с неослабным упорством собирал в своего «Фауста» каждый пророческий намек истории, весь подпочвенный исторический смысл эпохи.
В беседе с профессором Люденом Гете заявил, что интерес «Фауста» заключается в его идее, «которая объединяет частности поэмы в некое целое, диктует эти частности и сообщает им подлинный смысл». По мере того как уточнялось идейное содержание трагедии и обретало все более четкий социально-экономический смысл понятие «свободного края», к построению которого должен был приступить его герой, поэт вновь и вновь возвращался к уже написанным сценам, изменял их чередование, вставлял в них философские сентенции, необходимые для лучшего понимания замысла. В таком «охвате творческой мыслью» огромного идейного и житейского опыта и заключается та «высшая смелость» Гете в «Фаусте», которую отметил Пушкин.
Будучи драмой о конечной цели исторического, социального бытия человечества, «Фауст» уже в силу этого — не историческая драма в обычном смысле слова.
Это не помешало Гете воскресить в первой части «Фауста», как некогда в «Геце фон Берлихингене», колорит позднего немецкого средневековья. Начнем с самого стиха трагедии. Перед нами — усовершенствованный стих Ганса Сакса, нюрнбергского поэта-сапожника XVI столетия; Гете сообщил ему замечательную гибкость интонации, как нельзя лучше передающей и соленую народную шутку, и высшие взлеты ума, и тончайшие движения чувства. В текст трагедии щедро вкраплены проникновенные подражания старонемецкой народной песне «Король жил в Фуле дальной», «Что сталось со мною? Я словно в чаду» или надрывная песня обезумевшей Маргариты в последней картине первой части «Фауста». Необычайно выразительны и сами ремарки к «Фаусту», воссоздающие пластический образ старинного немецкого города.
И все же Гете в своей драме не столько воспроизводит историческую обстановку мятежной Германии XVI века, сколько пробуждает для новой жизни заглохшие творческие силы народа, действовавшие в ту славную пору немецкой истории.
3Вступая в необычный мир «Фауста», читатель должен прежде всего привыкнуть к присущему этой драме обилию библейских персонажей. Как во времена религиозно-политической ереси позднего средневековья, здесь богословская фразеология и символика — лишь внешний покров отнюдь не церковно-религиозного мышления. Господь и архангелы, Мефистофель и т. п. здесь носители извечно борющихся природных и социальных сил. В уста господа, каким он представлен в «Прологе на небе», Гете вкладывает собственные воззрения на человека — свою веру в оптимистическое разрешение человеческой истории.
Завязка «Фауста» дана в «Прологе». Когда Мефистофель, прерывая славословия архангелов, утверждает, что на земле царит лишь
…беспросветный мрак,
И человеку бедному так худо,
Что даже я щажу его покуда, —
господь выдвигает, в противовес жалким, погрязшим в ничтожестве людям, о которых говорит Мефистофель, ревностного правдоискателя Фауста. Мефистофель удивлен: в мучительных исканиях доктора Фауста, в его раздвоенности, в том, что Фауст
…требует у неба звезд в награду
И лучших наслаждений у земли, —
он видит тем более верный залог его погибели. Убежденный в верности своей игры, он заявляет господу, что берется отбить у него этого «сумасброда». Господь принимает вызов Мефистофеля. Он уверен не только в том, что Фауст
Чутьем, по собственной охоте
…вырвется из тупика, —
но и в том, что Мефистофель своими происками лишь поможет упорному правдоискателю достигнуть высшей истины.
Тема раздвоенности Фауста (здесь впервые затронутая Мефистофелем) проходит через всю драму. Но это «раздвоенность» совсем особого рода, не имеющая ничего общего со слабостью воли или отсутствием целеустремленности. Фауст хочет постигнуть «вселенной внутреннюю связь» и вместе с тем предаться неутомимой практической деятельности, жить в полный разворот своих нравственных и физических сил. В этой одновременной тяге Фауста и к «созерцанию», и к «деятельности», и к «теории», и к «практике», по сути, нет, конечно, никакого трагического противоречия. Но то, что кажется нам теперь само собою разумеющейся истиной, воспринималось совсем по-другому в далекие времена, когда жил исторический доктор Фауст, и позднее, в эпоху Гете, когда разрыв между теорией и практикой продолжал составлять коренной изъян немецкой идеалистической философии.
Фауст ненавидит свой ученый затвор, где
…взамен
Живых и богом данных сил
Себя средь этих мертвых стен
Скелетами ты окружил, —
именно за то, что, оставаясь в этом «затхлом мире», ему никогда не удастся проникнуть в сокровенный смысл природы, а также истории человечества. Разочарованный в мертвых догмах и застойных схоластических формулах средневековой премудрости, Фауст обращается к магии. Он открывает трактат чернокнижника Нострадама на странице, где выведен «знак макрокосма», и видит сложную работу механизма мироздания. Но зрелище беспрерывно обновляющихся мировых сил его не утешает: Фауст чужд пассивной созерцательности. Ему ближе знак действенного «земного духа», ибо он и сам мечтает о великих подвигах:
Готов за всех отдать я душу
И твердо знаю, что не струшу
В крушенья час свой роковой.
На троекратный призыв Фауста является «дух земли», но тут же снова отступается от заклинателя — именно потому, что тот покуда еще не отважился действовать, а продолжает рыться в жалком «скарбе отцов», питаясь плодами младенчески незрелой науки.