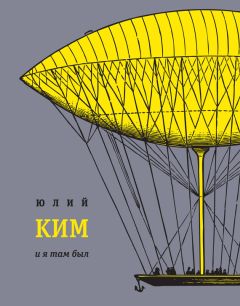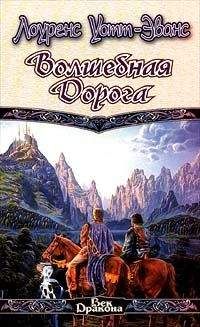Юлий Ким - Светло, синё, разнообразно… (сборник)
Без веселья Коваль не Коваль. Хотя в самом-то начале были у него робкие заходы в чистую лирику, вроде:
Одуванчик желтым был,
Сделался седым.
Ты моя весна-красна
Растаяла, как дым.
Или тот рассказ, где его герой в сумрачном лесу вдруг услышал звуки рояля и побежал туда, «попадая в такт», – нередко поддразнивал я Юру этим «попаданием», от чего он добродушно отмахивался впоследствии.
К дружбе Юра относился ответственно. Советы, мнения, просьбы выслушивал всегда внимательнейше. Когда в 83-м году возникла мысль о ежегодном институтском сборе в конце декабря, он сразу же предложил свою мастерскую как место собрания нашей компании (человек тридцать) и каждый год накануне даты обзванивал всех и готовил елку и всяческую закусь, а когда Ряшенцев попросил сдвинуть дату (иначе у него не получалось участвовать), Юра опять же обзвонил актив, чтобы принять решение коллегиально.
А уж когда, на почве литературных разногласий, дошло дело до выяснения отношений с лучшим другом Лемпортом, что привело к полному разрыву таковых, уж как он переживал! О чем без смеха не может вспоминать другой лучший друг, Силис, который в конце концов и примирил лучших друзей к их обоюдной радости.
Стихийный человек и отъявленный диссидент Петя Якир ему нравился, больше, конечно, стихийностью, чем диссидентством. Они любили вместе выпить и попеть «Когда мне было лет семнадцать». Однако опасная атмосфера диссидентского существования была совсем не для Коваля. Он был вольный художник и вольничал в своем художестве как хотел. Прекрасная его палитра при этом никак не задевала советскую власть, ибо предпочитала другие объекты для изображения. Да и не сталинское все-таки было время, когда убили бы просто за то, что вольничает.
Ко всякого рода протестам и возмущениям Юра очень даже прислушивался с полным сочувствием, но участвовать в них не стал. Так и говорил: «боюсь». Хотя дело было не в боязни, а в натуре, для которой и славить власть, и порочить было неестественным. А когда в самый разгар диссидентства Петю все же заносило в Юрину компанию, то выпивали и пели оба с прежним азартом, причем Петины топтуны запросто могли топтаться где-нибудь поблизости.
Но вот Петю посадили, а потом и судили, осенью 73 года. И, как уже было заведено на Москве, вокруг суда собралась небольшая толпа сочувствующих – что по тем временам особым подвигом не являлось, но любому, разумеется, было ясно, что его появление будет немедленно зафиксировано, из чего совсем не обязательно следовали репрессии – но могли.
И Юра пришел. Весь напряженный, всклокоченный, пришел, в совершенно не свою тусовку, но пришел, оглядываясь и разговаривая вполголоса, но не мог не прийти! Друга Петьку судят, помочь ничем невозможно, но ведь это же сукой надо быть, чтобы не прийти хотя бы посочувствовать!
Известна история, когда Эренбург, белый от страха, ушел с собрания, где клеймили космополитов и надлежало голосовать за гнусную партийно-антисемитскую резолюцию. Экое геройство – ушел с собрания. А вот геройство. По тем-то людоедским временам – еще какое!
Юра, наоборот, на собрание пришел, хотя никто его не обязывал, кроме собственного чувства. Подвиг не подвиг, но, безусловно, поступок.
В песенном деле он охотно уступал все пальмы друзьям – мастерам жанра, то есть Визбору и мне, хотя мастера не знаю, чьи песни пели охотнее – свои или его. У Юры-то их немного, десятка два всего, зато какие. Ряшенцев в своих воспоминаниях целую главу посвятил только одной из них – нашей всеобщей любимице «Когда мне было лет семнадцать», он этой строкой и всю книгу даже назвал. Кто хочет послушать, как ее поет Коваль, пусть разыщет фильм «Улица Ньютона, дом 1» – и песню услышит, и Коваля увидит, двадцатипятилетнего, которому там и двадцати не дашь.
Юра очень хороший писатель. Правда, он всю жизнь комплексовал на этот счет. Наверно, ему хотелось услышать о себе чье-нибудь очень для него авторитетное мнение – чье, не знаю, ну, может быть, Бахтина или Аверинцева. Что он стоит на одном уровне, скажем, с Пришвиным или там с Житковым. Здесь я пас. И в смысле эрудиции, и в смысле авторитетности. Скажу только, что для меня-то Юра значит очень много, так как именно он и еще три человека, сами того не подозревая, сформировали мою собственную писательскую интонацию, а это основа стиля.
Ну и разумеется, среди книжек, которые я люблю перечитывать, обязательно стоят и его, на одной полке с Самойловым, Бродским, Булгаковым. Очень вкусная проза. Помню, в институте удивил меня, провинциала, мой однокурсник Гриша Фельдблюм:
– Перечитываю «Записки охотника». Не спеша, по абзацу. Это наслаждение!
Теперь вот и я точно так же перечитываю Юру. Правда, в отличие от других читателей, я еще слышу его голос и вижу его лицо.
Эх, не получилось у меня сходить ли, сплавать ли с ним на какую-нибудь его охоту-рыбалку, уж до того начитался я, надышался его рассказами, пахнущими сырой землей, опятами и картофельным дымом. Раза два уговаривались мы с ним – не вышло. Поэтому вышло у нас одно только плаванье – сочиненное мною уже после его кончины, и сочинял я наше путешествие с горьким упоением, и все наши с ним разговоры списаны мной словно с натуры, хотя плывем мы с ним на том свете, где, не исключаю, еще и правда, вдруг да повидаемся.
Однажды Михайлов с Ковалем
Земную жизнь пройдя до эпилога, Михайлов однажды очутился в сумрачном лесу. Стояло лето третьего года. Неделю тому, воротясь из Европы, Михайлов наутро беспощадно спросил себя: «Ну и что ты изо всей Европы запомнил?» – и столь же беспощадно ответил: «Ничего. Разве только этот переливчатый парчовый звон, издаваемый швейцарскими коровами на альпийских склонах». (Они там пасутся, и у каждой на шее колокольчик величиной с ведро. Вблизи слушать эту жесть невозможно, но расстояние все преображает. На этом основано искусство пуантилистов.)
Закрыв глаза, Михайлов попробовал вообразить пейзажи, на которые вслед за швейцарскими коровами ему действительно хотелось бы взглянуть, и, к его удивлению, вместо прерий и Монбланов полезли со всех сторон камчатские закаты, Красноярские Столбы, норильские тундры и река под названием Лужа – то есть сплошная Россия, и интуитивный порыв вынес его из-за стола на станцию железной дороги, электричка доставила в подмосковные какие-то дачи, он пошел, дачи кончились, и он очутился в сумрачном лесу.
Вокруг него сосновые стройные стволы, коряво-темные до талии и золотисто-гладкие выше, возносили к небесам свои сизо-голубые хвойные кроны, образуя тенистую колоннаду. Сумрак в ней был живой, сияющий и отдавал пионерским детством. Так и казалось, будто вдали между стволами вот-вот мелькнут велосипедные спицы и белые носочки. Электричка где-то за деревьями отстучала свою быструю пробежку – как стучала она полвека тому, когда он был студентом и прогуливался по лесу с ослепительно красивой Лялей. Сосны одобрительно осеняли михайловские воспоминания, и из его учительской памяти сами собой всплыли слова тургеневского героя:
– Природа – это храм…
На что другой тургеневский герой возразил:
– Природа – это мастерская, и человек в ней работник.
На что Михайлов примирительно ответил:
– А для художника природа и то и другое. Работая в ней, как в мастерской, он тем самым превращает ее в храм искусства.
Тут из-за ближайшей сосны вышел Коваль и сказал:
– Совершенно с тобой согласен.
Коваля уже восемь лет как не было на свете. И вдруг он выходит из-за сосны. И Михайлов не так уж этим потрясен, как будто если и не прямо ждал, то, по крайней мере, был всегда готов.
Одно время его действительно одолевало подозрение, что однажды они вдруг все выйдут из-за угла – и Коваль, и мама, и Борис Борисыч, и Гришка с Ильей, все-все, и встанут перед ним, ласково улыбаясь: «А? Здорово мы тебя разыграли?»
Тем не менее небольшой холодок все же по Михайлову пробежал и воплотился в вопросе:
– Что – пора?
– Михалыч! – Коваль весело округлил свои неотразимые глаза. – Ну ты прям меня обижаешь. Неужели же я похож на вестника горя? Или шестикрылого серафима? На Георгия Победоносца, не скрою, похож, тем более мы с ним отдаленные тезки, но на этом сходство кончается. У нас с ним разные внутренние миры.
– Юра, не п… – сказал Михайлов и тут же захлопнул рот ладошкой.
Коваль участливо похлопал его по плечу:
– Ну ничего, ничего. Согрешил, конечно, но ведь и спохватился. А с другой стороны, я ведь как мастер слова и не могу предложить тебе другого термина. «Не бреши»? «Не шути»? Нет, все не то. Так что слово тобою употреблено единственно возможное, а значит, греха на тебе нет. Это и есть решение проблемы употребимости мата в литературном языке. Фельдблюм когда еще открыл.
– А… – начал было Михайлов.
– Ну конечно увидишь, – перебил его Коваль. – Много кого увидишь, я так думаю. Ну а что ж: Данту можно, а тебе пуркуа? Тем более, судя по твоим стихам, ты весь извелся, до того охота тебе повидаться. Как это: