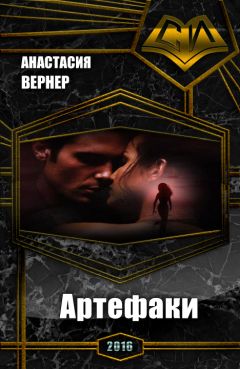Вернер фон Хейденстам - Воины Карла XII
— Ты дуришь сегодня, — ответил Фабиан, не отрываясь от чтения.
— Право, если бы мне приходилось сидеть и долбить, как тебе, я, пожалуй, предпочел бы вернуться домой и копать землю, как наш отец, весь свой век.
Ничего не подозревая, Фабиан отодвинул чашку и положил палец на строку, где остановился. Эрик же продолжал свое:
— Ты и сегодня на прогулке повторял пройденное?
— Повторял?.. Не совсем, но я для того и занимался всю ночь, чтобы освободиться на часок и погулять хорошенько.
Он провел в книге новую черту и задумался:
— Боюсь, придется мне бросить учение, что для меня тяжелее всего. Но оно берет много времени, а я слишком беден… да и глаза у меня слабые.
Посмей только Эрик, он ударил бы Фабиана; но он все еще не мог вполне отделаться от представления, что старший брат — какое-то высшее существо, против которого он не мог взбунтоваться. С другой стороны, это же представление придавало ему мужества и упорства продолжать донимать брата своими замечаниями.
Весь день просидел Эрик дома. На другое утро, в шесть часов, когда Фабиан неслышно поднялся с постели, встал и он. Братья стояли в одних рубашках и глядели друг на друга. Фабиан молчал. Одевшись, они вместе вышли на лестницу. Фабиан был при этом так смущен, что попеременно то застегивал, то распахивал свой кафтан чуть не на каждой ступеньке и только в воротах произнес:
— Ты ведь знаешь, что я предпочитаю гулять один…
— Я и не собираюсь идти с тобой дальше, большак. С меня достаточно походить тут взад и вперед на свежем воздухе, поглядывая вниз, где пляшет и бурлит река.
— Отчего же тебе не спуститься к реке? Там очень красиво.
— Охотно верю, что там красиво, но эта красота только помешала бы мне. Я буду ходить тут и повторять пройденное. Ты обо мне не беспокойся.
Фабиан еще долго стоял у ворог, но так как Эрик продолжал расхаживать по улице взад и вперед, не намереваясь уйти, то он засунул руки в карманы и, не оглядываясь, медленно побрел прочь.
Когда он наконец скрылся за углом, Эрик быстро перешел через улицу и постучал в окошко. Из-за занавески тотчас показалась рука, точь-в-точь, как накануне, и так же быстро исчезла.
До этого момента Эрик действовал необдуманно, поддаваясь только чувству злорадства, и лишь теперь начал соображать, что же ему предпринять и как себя вести, если обладательница руки действительно выйдет к нему на пустынную улицу. Времени для размышлений у него оказалось достаточно, но чем дольше, тем щекотливее казалось ему его положение, и он уже собирался бежать от своей затеи, как ворота отворились и девушка вышла. Он сразу узнал ее: без перчаток и та же корзинка. Только сама девушка показалась ему более хрупкой и молоденькой. Одета она была хотя и в совсем простенькое темное платье, но очень опрятно и к лицу, так что ему оставалось только приподнять шляпу и поклониться.
Она в изумлении остановилась:
— Но ведь это брат господина Фабиана!
— Я очень сожалею… но я действительно только брат господина Фабиана. У господина Фабиана немножко не ладно… вот тут…
И Эрик многозначительно стукнул себя по лбу.
— Он болен?
— Сбрендил немножко.
— Никогда не слыхала такого слова.
— Я тоже, но оно тут самое подходящее. У него что-то лопнуло в мозгу.
— Вы, разумеется, шутите?
— Ничуть не бывало, милейшая мамзель… не знаю, как вас по имени?..
— Меня зовут Мария.
— Мария… вот как. Что ж, имя довольно заурядное…
— Но с прибавкою «Стюарт» довольно звучное.
— Ну, это теперь редко услышишь.
И он, догадываясь, что девушка во всяком случае получила некоторое воспитание и образование, поправил свои манжеты.
— Разве, милейшая мамзель Мария — если разрешите мне называть вас так — никогда не… никогда…
— Чего я никогда не…?
— Никогда не замечала, что большак, — так я в старину прозвал его, любя, — что большак не совсем в здравом уме? Он, по-видимому, сам хорошенько не ведает, что творит… Притом мозги у него такие неповоротливые, так туго соображают и воспринимают, что ему приходится долбить и зубрить день и ночь. И просто грешно ему мешать. Поэтому я и решился попросить милейшую мамзель Марию не заниматься им больше и не слушать его болтовни.
— Он вовсе уж не так разговорчив.
— Оно и не так-то легко вести разговор на нашем неуклюжем, солдатском языке, на котором даже слово «любовь» мужского рода.
— Как и на французском, но это нисколько не мешает французам…
«Да она совсем ученая!» — подумал Эрик и взглянул на свои часы, плотно прикрывая их рукой, чтобы девушка не разглядела безобразной старой серебряной луковицы.
— Что скажет мамзель Мария?.. Не пройдется ли, для разнообразия, сегодня со мной… раз уж мамзель Мария все равно встала так рано? Погода прекрасная… и я, кстати, порасскажу про Фабиана.
Девушка огляделась, кивнула в знак согласия, и они пошли по дороге, уходя все дальше и дальше за город.
Корзинку она взяла с собой для собирания цветов, и, помогая ей в этом, Эрик рассказывал о своей родине Сигтуне, где все дома были деревянными, а церкви в развалинах. Но скоро оказалось, что она знает побольше его. Она рассказывала о народном спектакле в Стокгольме, где видела Карла Иоганна и Браге и королеву Дезидерию в тюрбане с белыми перьями… И королева несколько раз наводила на нее свой лорнет.
Время пролетело так быстро, что Мария перепугалась, когда услыхала доносившийся из города звон.
— Восемь часов! — Она крепко пожала Эрику руку, схватила корзинку и бегом пустилась домой.
— Завтра, — крикнул он ей вслед, — завтра я опять постучу к вам… мамзель Мария, милая, славная мамзель Мария!
— Да, мы еще увидимся. Вон по дороге идет Фабиан. Поклонитесь ему от меня и передайте, чтобы он приналег на книжки, долбил и зубрил хорошенько!
Эрик помахал ей вслед фуражкой, а затем обернулся к Фабиану, который был еще далеко. Тот шел, задумавшись, и, очевидно, ничего не заметил. Он плохо видел и уже готов был пройти мимо, когда узнал Эрика и вздрогнул.
— Верно, само провидение свело нас, — начал он. — Мне нужно серьезно переговорить с тобой. Последнее время я, пожалуй, был не так откровенен, как прежде. Я был, конечно, не прав, но мне казалось, что ты еще так молод и слишком легко смотришь на вещи.
— И это говоришь ты, большак?.. Что ж, если хочешь сделать из меня Каина, я им и стану.
Фабиан попытался ответить, но голос изменил ему, и он шел молча. Несколько раз останавливался он по дороге, стараясь вновь поймать утерянную нить разговора, но сумел выжать из себя лишь несколько слов о бедности и необеспеченной будущности. Вот они уже и в городе, а он все еще не успел прийти в себя настолько, чтобы сказать что-нибудь. Увидя, что дверь собора открыта, он увлек туда Эрика. И они молча осматривали величественные надгробные памятники королей и королев, воинов и ученых, пока не дошли до могильной плиты, вмазанной в пол, стертой шарканьем подошв и треснувшей во всю ширину.
— Я часто захожу взглянуть на эту плиту, — сказал Фабиан. — Тут на камне высечены изображения мужчины и женщины. Надпись было трудно разобрать, но видно, что тут схоронены муж и жена. Пусть имена и жизнь их позабыты. Но, может статься, кровь их еще жива, живы плоды их забот в их детях и потомках. И я не знаю на свете ничего прекраснее такого памятника с изображениями двух истинных супругов, составлявших при жизни одно целое и в горести и в радости и спящих теперь в одной могиле, под одним камнем, вплоть до Дня Судного. Они, двое чужих, встретились однажды в жизни, чтобы уже не разлучаться никогда, даже в смерти.
Он присел на ступеньку одной гробницы около прохода и, не поднимая глаз, продолжал:
— Мужчина или женщина, которые были женаты дважды, представляются мне чем-то половинчатым, напоминают разбитую арфу, заблудившееся существо и возбуждают мое сожаление, ибо нет конца и облегчения их несчастью, которое суждено им влачить до гробовой доски. Как можно слиться воедино с двумя женщинами, или с пятью, или с десятью? Глубокий смысл именно в том, чтобы двое слились воедино. Я не знаю, закон ли это природы, но знаю, что это закон человеческий, и это для меня всего важнее. Это — чистая, хотя и прохладная жизненная влага, которою люди наполняют грубый глиняный сосуд. Законы и руки человечества месили без устали огненную массу чувственности, пока не вылепили из нее прекраснейшее произведение, отражение которого видим на этой могильной плите. Для меня над этой плитой вздымается вечнозеленая сень, в которой щебечут птицы и над которою бесследно проносятся годы, то озаряя ее светом, то покрывая тенью. Если бы я умел играть на органе, Эрик, ты бы лучше понял меня. Когда орган играет, и эхо разносит по церкви гул шагов, и стар и млад ходят по этой плите взад и вперед — тогда именно и начинают для меня зеленеть эта сень и раздаваться щебетание птиц. Эрик нервно вертел в руках снятую с головы шапочку и, чтобы не выдать своего волнения, тоже уселся на ступеньке неподалеку от брата.