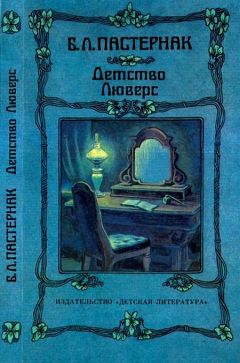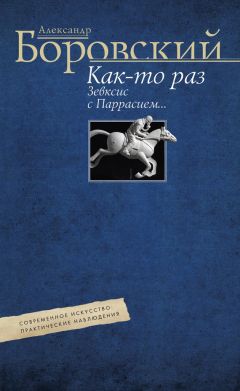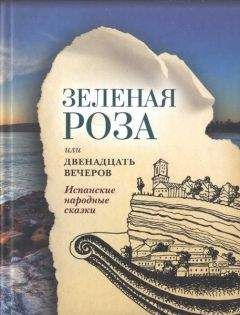Борис Пастернак - Люди и положения (сборник)
«Как велико и неизгладимо должно быть унижение человека, – думал Сережа, – чтобы, наперед отожествив все новые нечаянности с прошедшим, он дорос до потребности в земле, новой с самого основанья и ничем не похожей на ту, на которой его так обидели или поразили!»
В эти дни идея богатства стала занимать его впервые в жизни. Он затомился неотложностью, с какой его следовало раздобыть. Он отдал бы его Арильд и попросил раздать дальше, и все – женщинам. Несколько первых рук он назвал бы ей сам. И все это были бы миллионы, и названные отдавали бы новым, и так далее, и так далее.
Гарри выздоравливал, но госпожа Фрестельн оставалась при нем неотлучно. Ей продолжали стлать в классной. Вечерами Сережа уходил из дому и возвращался лишь на рассвете. За дверью ворочалась в постели и покашливала хозяйка и всеми способами давала понять, что знает о его неурочных приходах. Если бы она спросила, откуда он является, он не задумываясь назвал бы ей места своих отлучек. Она это чувствовала и, остерегаясь серьезности, какую он вложил бы в ответ и которую ей пришлось бы проглотить как обязательность, оставляла его в покое. Он приходил оттуда с тем же далеким светом в глазах, что с прогулки в Сокольники.
Одна за другой несколько женщин всплыли в разные ночи на уличную поверхность, поднятые привлекательностью и случайностью из несуществования. Три новых женских повести стали рядом с историей Арильд. Неизвестно, почему изливались на Сережу эти признанья. Он не ходил их исповедовать, потому что считал это низостью. Как бы в объяснение безотчетной доверенности, которая влекла их к нему, одна из них сказала, что он словно чем-то похож на них самих.
Это сказала самая матерая и запудренная из всех, самая-рассамая, та самая, что уже до скончанья дней была со всем светом на «ты», поторапливала извозчика такими жалобами на свою знобкость, которых нельзя привесть, и всеми выпадами своей хриплой красоты уравнивала все, до чего ни касалась. Ее комнатка во втором этаже пятиоконного домика, кривого и вонючего, ничем с виду не отличалась от любого мещанского жилья из беднейших. По стене ниспадали дешевые ширинки, утыканные фотографиями и бумажными цветами. У простенка, крыльями захватывая оба подоконника, горбился раскладной стол. А напротив, у не доходившей до верху перегородки, стояла железная кровать. И, однако, при всем сходстве с человеческим жилищем это место было полной его противоположностью.
Половики подстилались под ноги гостя с редким холуйством и, приглашая не церемониться с квартиранткой, сами, казалось, готовы были подать пример, как ею помыкать. Чужой толк был их единственным хозяином. Все существовало настежь, проточным порядком, как в потоп. Казалось, даже и окна обращены тут не изнутри наружу, а снаружи вовнутрь. Подмытые уличной славой, как в наводненье, домашние вещи не чинясь и как попадется плавали по широкому званью Сашки.
Зато и она в долгу перед ними не оставалась. Все, за что она ни бралась, она делала на ходу, крупным валом и по-одинаковому, без спадов и нарастаний. Приблизительно так же, как, все время что-то говоря, выбрасывала она упругие руки, раздеваясь, она потом, на рассвете, за разговором, упираясь животом в столовое крыло и валя пустые бутылки, додувала свои и Сережины подонки. И приблизительно по-такому же, в той же степени, стоя в длинной рубахе спиной к Сереже и отвечая через плечо, без стыда и бесстыдства прудила в жестяной таз, внесенный в комнату тою старухою, что их впускала. Ни одного из ее движений нельзя было предугадать, и ее надтреснутую речь подымал и опускал тот же жаркий бросовой нахрап, что сбивал набок ее пряди и горел в ее расторопных руках. В ровности этого проворства и заключался ее ответ судьбе. Вся человеческая естественность, ревущая и срамословящая, была тут, как на дыбу, поднята на высоту бедствия, видного отовсюду. Окружностям, открывавшимся с этого уровня, вменялось в долг тут же, на месте, одухотвориться, и по шуму собственного волнения можно было расслышать, как дружно, во всей спешности обстраиваются мировые пустоты спасательными станциями. Острее всех острот здесь пахло сигнальной остротой христианства.
В исходе ночи переборку колыхнуло незримым мановеньем двора. Это ввалился в сени ее покровитель. Нюх на чужое присутствие, самый верный из его доходов, не оставлял его и в чернейшем хмелю. Тихонько переступая в тяжелых сапогах, он как вошел, тотчас же тихо рухнул где-то рядом за переборкой и, ничем не сказавшись, вскоре перестал существовать. Его тихое ложе стояло, вероятно, доска об доску с промысловой кроватью. Вероятно, это был ларь. Едва он захрапел, как в него снизу живым и жадным долотом ударила крыса. Но опять наплыла тишина. Храпа вдруг не стало, крыса притаилась, и по комнате пробежал знакомый ветерок. Существа на гвоздях и клею признали хозяина. Все, чего не смели тут, смел вор за стеной. Сережа спрыгнул на пол.
– Куда ты? Убьет! – всем нутром прохрипела Сашка и, протащившись по постели, повисла на его рукаве. – Сердце сорвать не штука, а уйдешь – спину мне подставлять?
Но Сережа и сам не знал, куда рвался. Во всяком случае, это была не та ревность, которая померещилась Сашке, хотя она и не меньшей страстью подплывала к сердцу. И если что когда, подобно упряжной приманке, было выкинуто наперевес человеку, в залог его вечного хода, то именно этот инстинкт. Это была ревность, которою мы иногда ревнуем женщину и жизнь к смерти, как к неизвестному сопернику, и рвемся на волю за волею для вызволенья той, кого ревнуем. И, конечно, тут пахло все тою же остротой.
Было еще очень рано. По ту сторону мостовой в широких дверях лабазов уже угадывались раскидные листы тройных железных створ. Пыльные окна серели, до четверти налитые круглым булыжником. На Тверских-Ямских, как на весах, лежал рассвет, и воздух казался мелкой сенной трухою, беспрестанно им отделяемой. У стола сидела Сашка. Блаженная сонливость кружила и несла ее, как вода. Она болтала без умолку, и ее говор походил на здоровое дремлющее животное.
– Эх ты, Виновата Ивановна! – не слыша своих слов, тихо приговаривал Сережа.
Он сидел на подоконнике. А по улице уже проходили люди.
– Нет, ты не медик, – говорила Сашка, навалясь боком на доску. Она то ложилась щекою на локоть, то, выпрямив руку, всю ее мед ленно оглядывала сбоку, от плеча к кисти, точно это не рука была, а далекая дорога или ее жизнь, видная ей одной. – Нет, ты не медик. Медики́ другие. Я вас про́стотки не знаю, как, – ну, иное, когда сзади идет, не видать, – хвостом признаю́. Небось учитель? Ну вот. А то я до смерти простуды боюсь. Да ты не медик, нечего и спрашивать. Ты, послушай, не из татар ли, а? Ты приходи. Днем приходи. Ты адреса-то не потеряешь?
Они беседовали вполголоса, и Сашку то разбирал бисерный задорный хохоток, то одолевала зевота с почесотой. Она с детской ненасытностью, точно возвращенным достоинством, наслаждалась этой безмятежностью, очеловечивавшей еще больше того и Сережу.
Промежду болтовни, назвав Польшу Царством Польским, она хвастливым кивком на стену, где в глянцевитом гнезде прочих карточек лоснилось чучело благодушного унтера, выдала самое для нее далекое и заветное, то есть вероятного всему первопричинника. Вероятно, к нему и вела, от плеча к кисти, ее полная, терявшаяся в далях рука. А может быть, и не к нему. Вдруг, подобно сухому сену, разом зажглась заря и вся вдруг, как сено, сгорела. По лобасто-пузырчатым стеклам поползли мухи. Фонари и туманы обменялись зверскими зевками. Весь в разбегающихся искрах, затлев, занялся день. Тут Сережа почувствовал, что никого еще так сильно не любил, как Сашку, и тут же в мыслях увидал, как, куда-нибудь подале к кладбищам, мостовая обязательно в мясных красных пятнах; и булыжник на ней крупнее и реже, как у застав. Поперек же нее, отрываясь и уходя, отрываясь и уходя, спокойно скользят товарные вагоны, пустые и со скотиной. Вдруг происходит нечто подобное крушению, движенье чем-то перехватывается, из глубины подымается отсеченный конец улицы. Это тем же ходом, друг дружке в наверст, друг дружке в наверст идут порожняком платформы, но их не видно за плотной стеной людей и телег у переезда. Тут крапива и курослеп, и пахло бы полевою мышью, когда бы не гарь. И тут же бойко шестилетнею вострушкой юлит сопливая Сашка. Наконец, всех позднее и в страшных попыхах, – точно спрашивая у стоящих, не видали ли вагонов, не пробегали ль, – задом-задом поспешает черный потный паровоз. Вот шлагбаум подымается, улица разбегается прямой стрелою, вот сейчас с двух сторон, врезаясь друг в друга, двинутся возы и человеческие расчеты. И тут на середку мостовой теплым желудком чудища, травяным, трижды скрученным мешком брякается паровозный дым, тот самый, может статься, ливер, которым питается окраинная беднота. И Сашка путается и поглядывает, как страшен он средь чайных и колониальных товаров, с продажею сигар и табаку, и кровельного железа, и городовых, а про ее глаза и пятки где-то тем временем пишут «Детство женщины». На мостовой пахнет овсом, и она до головной просто-таки боли припечатана солнцем по конской моче. И вот, не миновав-таки простуды, которой так боялась, потеряв глаза и пятки, и нос, и разум, перед тем, как слечь в больницу, а то и в могилу, забегает она на минутку за книжкой, в которой, говорили, про это все прописано, ну просто-таки про все, про все, и вот, видно, правда: дурой жила, дурой и помирать. Ей и на тротуар нельзя, отрядом по мостовой ведут, а ей, вишь, что приспичило. Сбрехнули, а она, дура, и подхвати, просто смешно. Про другую это все: и фамилия не русская, и город другой. Вот городовой при книжке холщовой с тесемкою, там и она, в ней и читай. Ну, и (мгновенный нажим похабной собачки) – та-тра-тра, та-та-та, – конец один. И городовые смотрят ласковей. Баб они ведут огнестрельных, а у благородной публики язык на предохранителе.