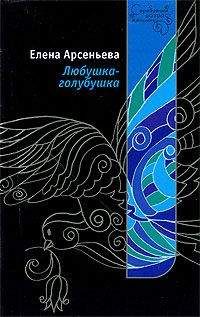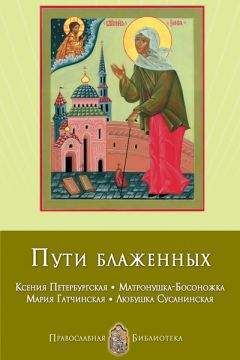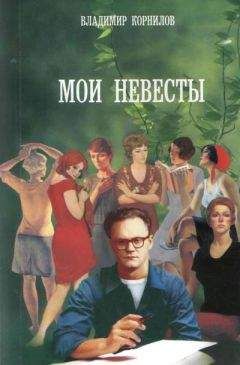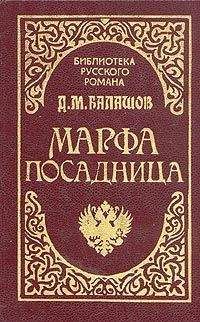Ник Хоакин - Избранное
В полдень Мачо провожал отца. Старший Эскобар уже сменил городской наряд на костюм цвета хаки и красные сапоги — когда Мачо был маленьким, он верил, что отец даже спит в этих сапогах. Они поговорили о Конче Видаль, про которую, по словам отца, толковали разное. Одни считали ее хорошей женой и преданной матерью, другие — распутной и (поскольку никто не мог обвинить ее в чем-то определенном) коварной женщиной. Скорее всего, сказал отец, она действительно хорошая жена, но сейчас эта роль начала ей надоедать, а потому «лучше соблазни ее, не дожидаясь, пока она соблазнит тебя». Мачо уверил себя, что Конча Видаль вовсе не интересует его; она попросила его заглянуть к ней тем же вечером, но тут подвернулось что-то еще, и он совершенно забыл о ней и ни разу не видел те несколько месяцев, в течение которых он снискал в городе славу одного из самых отчаянных повес. И все же счастье, испытанное им в то утро на стенах старого города, не забылось; среди шумного веселья неожиданная сладкая боль в костях, вспыхивавшее в мозгу видение полыхающих огнем деревьев заставляли его вдруг замереть, и, удивленно осмотревшись по сторонам, он думал: «Почему же все-таки я был так счастлив тогда, чего я ожидал?» И в поисках ответа он жадно устремлялся к неведомому, к новому, но каждый раз дело кончалось очередной вечеринкой, ночным купанием и потребностью побуянить под утро, когда человек уже устал, изрядно пьян и его клонит в сон, но тем не менее он все еще на взводе и ему хочется побить где-нибудь стекла, помчаться с бешеной скоростью на машине или поколотить невежливого официанта. Он наслаждался жизнью, но разочарование, как красные муравьи, подтачивало наслаждение. В его сознании деревья по-прежнему полыхали огненными цветами, и это никак не кончалось.
Когда они снова встретились (опять случайно: она поднималась, а он спускался по мокрой от дождя лестнице), его слова «А где же ваши бананы?» и ее ответная улыбка стерли все события, прошедшие со времени их последней встречи. Словно они никогда не расставались, никогда не спускались со стен старого города, и — ей-богу! — уж на этот раз он свое не упустит! Они торопливо обменялись несколькими словами, и она собралась идти дальше, но он взял ее за плечо и слегка сжал его. Она вздрогнула, и он опять почувствовал, как у него сладко заныли кости. Спрятавшись под ее зонтом от проливного дождя, дрожа в мокрых плащах и ошеломленно глядя друг на друга, они одновременно начали говорить, но голоса их потонули в раскатах грома, вспышка молнии заставила их рассмеяться; ветер вырвал зонт у нее из рук, их захлестывало дождем, и струйка воды потекла у него по спине. Вдруг, как по команде повернувшись, они вместе побежали вниз по лестнице. Через несколько дней пошли разговоры о том, что «Конча Видаль совсем потеряла голову и ей абсолютно наплевать, что все это видят». Ее страстность оказалась для Мачо ошеломляющим открытием, словно до этого он был девственником.
Мачо Эскобар был родом с филиппинского юга, который в отличие от американского юга никогда не вел никакой войны и полностью сохранил свои феодальные традиции. Когда Мачо исполнилось пятнадцать лет, отец подарил ему на день рождения женщину. Все равно мальчик скоро пойдет к проституткам, объяснил отец, а потому пусть лучше у него дома будет собственная и чистая женщина. Его мать, набожное и чахоточное существо, была тогда еще жива, но она не возражала, а если бы и возразила, это ничего бы не изменило. Девушка, доставшаяся Мачо, была дочерью арендатора с отцовских плантаций — он отдал ее Эскобару в уплату за долги. Она спала на циновке в комнате Мачо, и он постепенно очень привязался к ней. Всякий раз, когда молодой хозяин и любовник приближался к ней, девушка опускалась на колени и ее била мелкая дрожь. Когда она забеременела, отец Мачо отослал ее прочь. Мачо сказали, что она заболела. Позже, узнав, что ребенок родился мертвым, а девушку отправили в Манилу и устроили в чей-то дом прислугой, Мачо в ярости вскочил в автомобиль и помчался по полям. Дело кончилось тем, что он угробил машину и загубил часть сахарного тростника. Отец попробовал было выпороть его, но сын дал сдачи, за что и был выставлен из дома. Он сбежал к тетке, а та отправила его в католический пансион в Манилу, где по субботам Мачо вместе с ребятами постарше, дождавшись, когда пансион засыпал, вылезал через окно и убегал в город, в кабаре, весело проводил всю ночь, а под утро возвращался как раз к утренней мессе и первым входил в часовню; за благочестие Мачо даже получил медаль от озадаченных отцов-иезуитов.
Закончив школу, Мачо на год вернулся в асьенду отца — за это время он должен был решить, чем займется в будущем. Отец и сын быстро стали друзьями: они вместе охотились, пили, таскались по женщинам и отлично жили, окруженные ордой слуг в огромном, уродливом, покосившемся доме, построенном еще в шестидесятых годах прошлого века: гостиная была так велика, что занимала почти полдома, а спальни так малы, что в них едва можно было поставить кровать; в доме было множество кресел-качалок, мраморных столов, вешалок, зеркал в позолоченных рамах, подставок для морских раковин, каменных постаментов для цветочных горшков и древних увеличенных фотографий в вычурных рамках — нагромождение пыльной рухляди. Некоторые южные плантаторы в это время уже строили более комфортабельные жилища, но юг всегда славился не своим вкусом, а прежде всего экстравагантностью — славу ему создавали сказочные роскошные банкеты и огромные бриллианты на женах плантаторов — и в не меньшей степени ужасающей бедностью, в которой жил простой люд. Для жителей севера юг был краем, где говорили, лениво растягивая слова, где часто свистел кнут, где готовили отличные пирожные, где верили во всякий вздор — в привидения, вампиров и каких-то непристойных чудовищ; и конечно, юг был краем, откуда с незапамятных времен в Манилу прибывали богатые наследницы, служанки и проститутки. Крупные землевладельцы были там, в сущности, полными господами, а женщины, как злословили в Маниле, «никогда не мылись». Тем не менее именно на юге наиболее удачно смешалась малайская, испанская и китайская кровь, и, до того как волна второй мировой войны докатилась до островов, признанными красавицами Манилы были уроженки юга.
Те два года — первый, когда Мачо вернулся в город изучать право, и второй, когда он стал любовником Кончи Видаль, — для остального мира были годами агонии и террора, блицкригов и концлагерей, но для манильцев эти годы были всего лишь эпохой буги-вуги, маджонга и платьев с вырезом на животе. Уныние тридцатых годов осталось позади, снова настали веселые времена, гул войны доносился сюда приглушенно; у манильцев были деньги, была уверенность в себе и был американский флот. И в этом светлом, радостном мире только над Мачо и Кончей Видаль сгущались тучи. То, что началось как случайная интрижка, превратилось в нечто посерьезнее: они полюбили друг друга, а это, конечно же, было излишне. Завести роман считалось даже модным, это означало добродушные шутки друзей, излюбленные столики в ночных клубах, беззлобные, в сущности, высказывания: «Конча Видаль совсем потеряла голову, и ей абсолютно наплевать, что все это видят». Но любовь была позором, любовь надо было скрывать, любовь означала нервы и слезы, бессонницу и дикие, исступленные письма, агонию и ужас. Когда все чувствовали себя в безопасности, эти двое ощущали тревогу; когда все были полны уверенности, эти двое боялись грядущего и не утешали себя надеждами на присутствие американского флота.
Отчаянный светский повеса стал собранным и серьезным; она похудела, начала больше пить и уже не походила на женщину, способную станцевать экзотический танец с гроздью бананов на голове. В их любви был привкус недозволенного — «она ему в матери годится», «май и декабрь», «молодое вино и старые мехи», — и поэтому она сама сказала ему, что рано или поздно, может быть уже через год, они устанут друг от друга; но год прошел, а их страсть осталась прежней; неодобрение окружающих сменилось открытой враждебностью; и они стали поговаривать о том, чтобы вместе уехать куда-нибудь. На его настойчивые уговоры она с плачем отвечала, что обязана подумать о дочери. Конни тогда шел девятый год, и она боготворила мать. Бросить дочь значило разбить ее сердце, но и взять ребенка с собой в запретное путешествие за границу было бы не менее жестоко.
В это время отца Мачо разбил паралич. Мачо немедленно вылетел на юг, где в огромном запущенном доме умирал его отец среди пустых бутылок, грязных башмаков и ссорящихся слуг. Накануне смерти отца (а тому потребовалась неделя, чтобы отойти в лучший мир) он получил письмо от Кончи. Он виделся с ней перед отъездом и вынудил ее принять решение: дочку она оставит в Маниле, а они уедут за границу, как только он вернется из провинции, что бы там ни случилось. Наконец-то покончив с неопределенностью, Конча почувствовала облегчение и даже, развеселившись, потащила его прощаться с полыхающими деревьями — снова было лето, — и она смеялась, как девочка на воскресной прогулке, когда он вытаскивал у нее из-за шиворота красные лепестки и толстых зеленых гусениц.