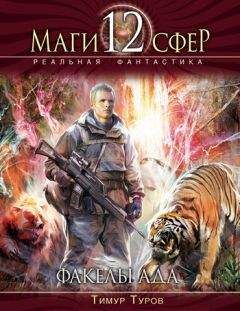Владимир Корнилов - Любушка
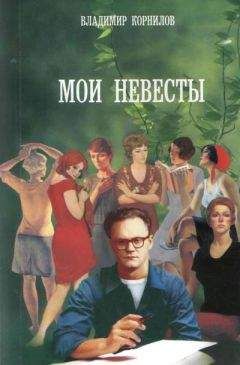
Обзор книги Владимир Корнилов - Любушка
Владимир Корнилов
Любушка
1
В дни тихого предзимья, когда землю прихватило уже легким морозцем, появился в лесхозовском поселке новый человек. Высокий, худощавый, с косматящимися бровями, из-под которых остро и смело, глядели умные глаза, он по-хозяйски обошел усадьбу, зорко всматривался в меня, сидящего на крыльце в шапке и шинели, с книгой на коленях, решительными шагами поднялся в контору.
Вечером я узнал, что на работу оформился новый конюх, Аверьян Петрович, что он сам из дальней деревни, что он вдов и жить будет в сторожке при конюшне с единственной своей дочкой. Узнал, что дочку зовут Любушкой, и что-то такое теплое, влекущее послышалось мне в этом имени, что сердце мое дрогнуло.
Любушку впервые я увидел издали на другой день, она помогала отцу переносить сено из прежде привезенного стога в конюшню. Работала споро, с видимой охоткой, и ворох сена, который, подняв на вилах, она несла, казался больше её самой, — настолько Любушка мала была росточком, ну прямо девочка с круглым, раскрасневшимся от морозца и работы лицом.
Встретиться, поговорить случая не представлялось, в ту пору моя жизнь шла уединенно, я усиленно одолевал институтскую премудрость второго курса. Изредка вытаскивал стул на крыльцо, сидел, потеплее закутавшись, со щемящим чувством утраты оглядывая уже отяжелевшие снегами леса, которые еще совсем недавно, даже в самый канун уже минувшей войны, были доступны для меня, как дом, в котором теперь я жил.
Очень скоро, почти в каждом из дней, я стал находить на крыльце то веточку от зимнего дуба с трогательно стойкими листьями, то еловую лапу с янтарными шишками, то пучок веточек плакучих берез зябко висящими сережками, терпеливо ожидающими весеннего тепла.
Я не видел, как появлялись на крыльце эти трогательные знаки внимания, но верно догадывался, что еще незнаемая мной Любушка вот так, невидимо разговаривает со мной.
Вскоре, после зимнего солнцеворота, когда покрытое изморозью стекло в окне сверкало и блестело в солнечных лучах, а я сидел за столом, раскрыв ученый труд, и вдумывался в исторические закономерности расцвета и упадка земных цивилизаций, мама приоткрыла дверь, сказала со значением:
— А к тебе Гость!..
Любушка вошла стеснительно, в то же время с какой-то детской решительностью, остановилась у края стола, густо краснея, произнесла срывающимся голосом:
— Я к Вам… Может, дадите что-нибудь почитать?
Тут-то и разглядел я таинственную дочку нового конюха. Ну, совершенно круглое, открытое, доброе лицо, как у расписных глазастых русских матрешек! Из-под серого платка, охватившего голову и концом закрученного вокруг шеи, выбивалась на лоб прядка светлых, с какой-то даже рыжиной, волос, на широком носу и вокруг россыпь простодушных веснушек. Щеки Любушки продолжали гореть, но широко раскрытые глаза смотрели прямо, как у отца, и с доверчивым ожиданием.
В ту первую встречу не все я увидел, это потом разглядел прямые брови, которые по какому-то внутреннему побуждению вдруг строго сдвигались к переносью, приоткрывающие характер непреклонный, и волевую ямку посередине вроде бы мягкого подбородка. А сейчас, в первом близком пригляде, меня как будто опахнуло мягким теплом. Я даже растерялся, засуетился, не зная, как повести себя с необычной гостьей.
А маленькая, вся какая-то уютная девушка с родственной доверчивостью стояла рядом, смотрела на меня пытливо, как будто спрашивала: «А ты знаешь, зачем я пришла?».
В охватившей меня суетности, я бормотал: «Почитать… Почитать… что же дать тебе почитать?».
На диване, под подушкой, лежали охотничьи рассказы Пришвина, для меня, в моем положении, это было утешительное чтение. Ничего другого под рукой не было. Я повернулся взять стоящий у окна костыль. Любушка, в готовности помочь, предупредила мое движение.
— Вы не вставайте! Скажите — где, я подам! — Она достала из-под подушки книжку, передала мне. Сама вернулась к дивану, заботливо взбила подушку, расправила одеяло, разгладила маленькой ладошкой складочки.
Принимая от меня книгу, спросила:
— Хотите, чтобы я эту прочитала? — И засмеялась тихонько. — Это скорее для папани. Он когда-то охотничал. Но я все равно прочитаю, — сказала она, прижав книжку к груди. — Ведь вам она нравится?
— Нравится, — признался я, радуясь той милой непосредственности, с которой девушка вела себя.
— Ну, я пойду? — вопросительно сказала Любушка и вздохнула. Уходить ей не хотелось.
2
По пенсионному делу надо было ехать в военкомат, в районный центр. Отец разрешил взять Орлика, и Аверьян Петрович поутру лихо подкатил к крыльцу, заботливо усадил меня в санки, с отеческой заботливостью укутал в тулуп.
До города было пятнадцать верст, мы покатили. Орлик, как всегда, шел напористо, комья снега летели из-под копыт, били в передок саней. Вид засугробленных полян среди заснеженных лесов, располагал к молчаливому созерцанию. Но Аверьян Петрович не был в спокойствии, держа в руках натянутые вожжи, то и дело привставал, покрикивал, побуждал Орлика к ровному стремительному бегу. На полдороге придержал коня, пустил шагом. Готовясь к разговору, прокашлялся. Сказал:
— Хочу спросить тебя, Володимер (так звал он меня, сильно округляя и нажимая на «о»), спросить, хочу, как располагаешь жить?
В откровении дорожной беседы, я ответил:
— Пока жизнь мной располагает, Аверьян Петрович. Кто знает, в какую сторону повернет. Еще доучиться надо.
— Ученье — это хорошо, — одобрил Аверьян Петрович, помолчал, в неспокойствии перебирая вожжи. Опять вернулся к интересующему его вопросу:
— Учеба учебой. Дело понятное, умственное. А в личном вопросе? Тебе, как понимаю, надо по-семейному устраиваться. Чтоб и с этой стороны, как говорится, жизнь подпереть. Небось, мыслишка-то беспокоит?
— Дума-то есть. Да невесты уж больно расчетливы. Кому охота такую обузу на себя брать, — сказал я, явно напрашиваясь на сочувствие.
Аверьян Петрович несогласно покачал головой, тут же в горячности заговорил, покручивая концом вожжей:
— Не к лицу прибедняться, Володимер. Парень ты крепкий, видный. А что костылем подпираешься, в том ли беда? Вот оженишься, детишек нарожаете. В рост пойдут, заботы, хозяйство на себя примут. Тут, Володимер, ежели так на себя смотреть, мимо судьбы прокатишь!..
Чувствовал я, близок, близок был Аверьян Петрович к тому, чтобы досказать что-то его беспокоящее. Но удержал он себя. Привстал, тряхнул вожжами, прикрикнул:
— А ну, Орлик! Пшшол!..
В молчании мы снова понеслись по дороге.
3
Любушка в другой раз навестила меня, возвратила книгу.
— Ну, как тебе Пришвин? — полюбопытствовал я.
— Собачку жалко! — оказала она. — Когда Анчара убили, я аж дышать перестала. И заплакала… А тот самый, который стрелял, он что — придурком прикинулся? Стрельнул — и не признается!..
Приятно было убедиться, что Любушка бесхитростна и выполняет обещанное. Смотрел на неё, наверное, с очень уж откровенным любованием, она даже смутилась, спросила испуганно:
— Я не так говорю?!
— Так, так, Любушка. Ты просто прелесть! — воскликнул я с прорвавшимся восхищением. Любушка вспыхнула.
— Скажете тоже, — проговорила она стеснительно и отвернулась. Я дотянулся до её руки, сжал жесткую, огрубевшую в крестьянских работах ладошку, повторив с чувством:
— Ты славная, ты очень хорошая девушка. Только не могу понять, почему вы бросили свой дом, деревню, сюда перебрались? Тебе, наверное, учиться ещё надо?..
Мучительное смятение мыслей отразилось на лице Любушки. Меня даже оторопь взяла. Но Любушка уже справилась с собой. Брови сдвинулись, нахмурились, она опустила голову, смотрела на свою руку, которую я продолжал держать в своих руках. Заговорила с придыханием, как на бегу.
— Папаню-то на войну взяли. Грудь у него вся больная, думали, лихо мимо пройдет. А оно большим худом обернулось — маманя не в срок померла. Папаня изжить себя хотел. А я-то при нем! На меня глядючи живой остался. Своей жизнью меня поднял. Я-то вот подросла. А в деревнях повсюду глухо. Одни вдовы да девки. Судьбу-то как устроить! Вот батя и говорит: «Давай, доча, в село, хоть на время переберемся». Туточки вот и оказались… — Ладонь ее выскользнула из моих рук. Она вздохнула, развела руками, будто сказав: «Такие вот мы, не пристроенные…».
Смотрел я на Любушку, и билась в голове одна только мысль: «Какой же я слепец… Какой слепец!..».
4
На этот раз я сам пошел к Любушке. Поднялся на чисто вымытое крыльцо, постукал в обитую кошмой дверь. И Любушка, и Аверьян Петрович были дома.
Аверьян Петрович, сдерживая приветливую суету рук, освободил меня от шинели (в сторожке было натоплено), усадил на широкий табурет, единственный в малом пространстве комнаты.