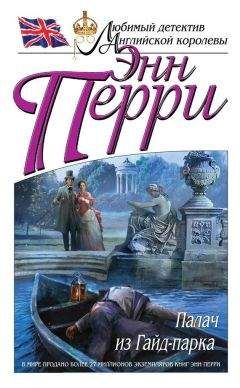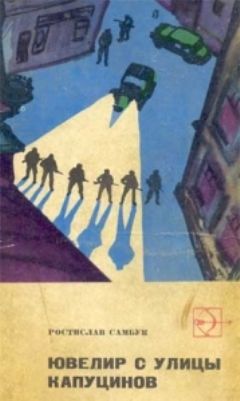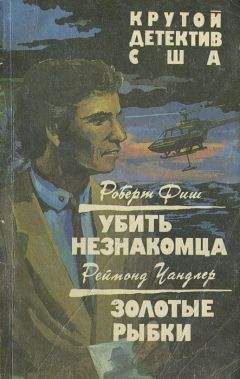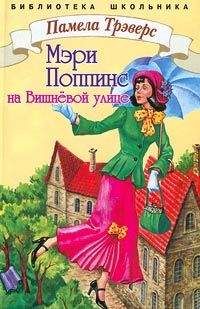Жан Ануй - Золотые рыбки или Отец мой славный
Горбун (беспокойно ища Антуана глазами). Мсье дё Сан-Флур…
Антуан. Я здесь. Ничего не бойтесь.
Горбун (упоенный, шепчет с трудом). Ах, вы здесь! Я вас ненавижу!
Антуан. Да. Успокойтесь. Сейчас приступ пройдёт.
Горбун. Я врач. Они повторяются всё чаще и чаще. Я знаю, что погиб.
Антуан (ласково). Никогда не нужно так говорить. Наука неточна, а человек неистребим, когда он этого хочет. Нельзя ли сделать укол какой-нибудь, чтобы вам стало легче?
Горбун (с усилием). В полотенце, у ножки стула… там, во внутреннем кармане лежат две ампулы, спирт и стерильный шприц. Попросите секретаря, пусть найдёт медсестру. Но дайте мне слово чести, что, пользуясь случаем, вы не убежите… Для вас ведь честь, надеюсь, имеет значение?
Антуан (ласково). Имеет, поэтому я предпочитаю вам этого слова не давать. Постарайтесь тоже войти в моё положение. Но если хотите, я сам могу сделать укол. Секретарь снимет с вас штаны, а я живо вкачу вам, как следует.
Горбун. А вы хорошо делаете уколы? Я очень чувствительный!
Антуан. Не бойтесь, я колол задницы большинству моих приятелей, а они только ещё больше просили. (Обращаясь к Кислюк у.) Снимай в него портки.
Кислюк, насупившись, подходит к горбуну.
Горбун (стонет, пока Кислюк снимает с него брюки). На полу, в кабинете! С голой задницей под символом свободной Франции — Лотарингским Крестом! А ведь я правительственный комиссар!
Антуан (натирая ему ягодицу ваткой со спиртом, ласково). Ба! Иной раз случается, что одна задница другой стоит! Давайте-ка, расслабьтесь! Отпустите мышцы ягодиц! (Колет.) Ну вот и все дела! Было не больно?
Горбун. Нет. Я вас ненавижу.
Антуан (прикрывая его). Да. Только особенно не шевелитесь. Главное, что я не сделал вам больно. Вы первая левая задница, которую я колю.
Горбун. Вы мне всегда доставляли боль… Я страдаю с самого детства. Мои страдания никогда не прекращались. Я из бедных…
Антуан. У всех детство сложное. Дети богатых, большей частью, оставлены родителями. И дорого платят за привилегию иметь гувернантку. Я через это прошёл.
Горбун. У меня был горб, а моя мать прислуживала в имении… Я жил ненавистью и презрением до тех, пока ни стал достаточно умным, чтобы возвыситься над другими, черпая из моего духовного источника. (Кричит.) Я очень умён! Я бы мог стать театральным критиком, если бы судьба распорядилась иначе, и я жил бы в Париже!
Антуан (ласково). Да. Вы мне уже об этом сказали. Не возбуждайтесь напрасно. Ничего не потеряно. Это попроще всегда открыто любому. Инъекция начинает действовать. Ваш пульс улучшается и, если вам повезёт, то вы, быть может, заснёте.
Горбун (обеспокоенный). А вы не воспользуетесь этим, чтобы выскочить из окна?
Антуан. Тут вооружённый секретарь. А во дворе караульные. Так что давайте, ложитесь!
Горбун (в полусне). Да. Вооружённый секретарь, а во дворе караульные… Мы скоро возобновим допрос… Нужно быть безжалостным… Нужно чистить. Это наш долг. Я мужественно отринул всякое искушение быть человечным… Но, к сожалению, у меня есть сердце, которое меня всегда предаёт…
Антуан (улыбаясь). Этот орган склонен над нами подшучивает. Я кое-что знаю об этом…
Пауза. Горбун засыпает. Антуан, убрав руку с его пульса, потихонечку кладёт её горбуну на грудь и встаёт.
Антуан. Руку на сердце. Это социалист — он так привык. (Улыбаясь, поворачивается к Кислюк у.) Пути провидения неисповедимы. Горбун заснул, и так как теперь очень жарко, время обеденное, караульных и духу во дворе не слыхать, все внутри дрыхнут. Так что я из окна выскочу.
Кислюк . Нет.
Антуан. Кислюк, сегодня я приговорён к смерти.
Кислюк (кладя руку на автомат). Попытка к бегству. Сделаешь шаг, я тебя замочу.
Антуан. Бестолочь ты!
Кислюк (после паузы). Жалеешь меня, да? Ты жалеешь меня с самого детства? Вот почему ты держал меня при себе?
Антуан. Да.
Кислюк. Мерзавец! Даже когда я тебя накалывал, когда я плевал на тебя?
Антуан. Да, ты разве не заметил, что я — спрятавшийся за нахальством калека? Убогие мешают мне спать.
Кислюк (потея от ненависти, шепчет). «Так дайте же ему воды, сказал отец мой!»
Антуан. Да. Вы выучили это в школе, когда нам было по двенадцать лет, и оба были неправы, когда смеялись… славный отец Гюго! Не всегда очень умный, но щедрый что бы там ни было. Он сделал своё дело. А теперь, Кислюк, я прыгаю! (Берёт цветок из вазочки на столе горбуна, вставляет его себе в петлицу.) В цилиндре и фраке я легко впишусь в первую же свадебную процессию, обе стороны примут меня за незнакомого кузена… и сегодня же вечером я покину эти нездоровые земли.
Кислюк (смотрит на него холодным глазом). Строй из себя посмешище, как обычно. Я из услужливости претворялся, что смеюсь, так как ты платил за пиво, но смешно мне никогда не было. И на этот раз ты не отделаешься, изображая шута. Сделаешь шаг, я стреляю. Я — патриот!
Антуан (игриво). Не пятнай себя, ты и так чумазый!
Кислюк (кричит, искривлённый ненавистью). Если хочешь знать, когда мне было шестнадцать лет, я переспал с твоей матерью! Она, разумеется, ложилась со всеми подряд и утром выгнала меня вон именно как чумазого… но у меня и это тоже на роже отобразилось, и я хотел это с тобой в последний момент разделить!
Антуан (бледный, идёт к нему, подняв кулак, но удовлетворяется только шёпотом). Выродок несчастный! Некогда таких, как ты называли сволочью!
Затем он спокойно направляется к окну. Кислюк, с вылезающими из орбит глазами вопит, опустошая в него магазин своего автомата.
Кислюк. Сразу полегчало! Хорошо-то как! Да здравствует Франция!
Антуан, кажется, был ранен или убит, но, подумав, он встаёт и обращается к Кислюк у с нежностью.
Антуан. Но это бессмыслица. Абсурд! Я выдал замуж дочь в 1960 году. Так что ты не мог убить меня в 44-м, дурак!
Свет разом потухает. В темноте слышно, как играют фанфары. Сперва очень громко, потом тише, как бы удаляясь. Когда свет возвращается, площадка целиком пустая. На ней полно теней. Во фланелевом полосатом костюме и канотье Антуан едет на велосипеде. Рядом с ним, на велосипеде поменьше, едет Тото. Они крутят педали бок обок. Музыка едва доносится издалека.
Тото (крутя педали). А я хочу посмотреть на факельное шествие!
Антуан. Тогда нечего это безостановочно повторять! Ты же видишь, что мы ищем. На полуострове столько оврагов, что местность плохо просматривается. Послушай! (Перестав крутить педали, они прислушиваются.) Нет. Это ветер.
Тото (упрямо). Это не ветер, это тромбоны! Ты так говоришь, чтобы уговорить меня вернуться.
Они опять прислушиваются.
Антуан (вглядываясь в ночь). Они должны быть со стороны Пульдю. Кажется, я там вижу сияние. Едем!
Они опять начинают крутить педали.
Антуан. Подумать только, ты вынуждаешь меня проехать двадцать километров ночью, без фары, только чтоб посмотреть, как горстка кретинов ходит в темноте с разноцветными фонарями и флагами! Я делаю это только для тебя! Мать твоя опять скажет, что я слишком слабый.
Тото (упрямо). Ты право не имеешь лишать меня национального праздника!
Антуан. Для них это, может быть, и праздник… к тому же, только с 1880 года! Но не для нас, не для меня, я тебе говорил.
Тото. Стыдно, что ты не захотел вывесить флаги на окна. Почему ты не такой, как все?
Антуан. Ты пока мал ещё, я тебе потом объясню.
Они некоторое время крутят педали молча.
Тото (неожиданно спрашивает). 14 июля, это что… освобождение?
Антуан. Тото! Я не разделяю их взглядов, но всё-таки! Пора знать, что это день взятия Бастилии.
Тото. Англичанами?
Антуан. Ты безнадёжен! Почему ты ничего не делаешь в школе?
Тото. Чтобы быть рядом с батареей.