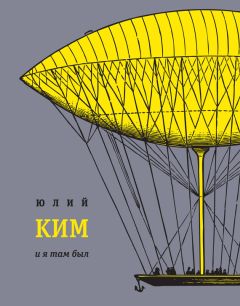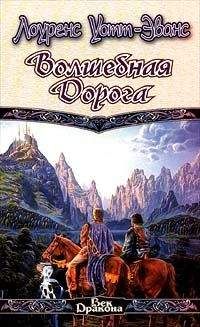Юлий Ким - Светло, синё, разнообразно… (сборник)
Вот это парень
(к/ф «Короли и капуста»)
Жил на свете Бонапарт,
Грозный генерал.
Он, когда входил в азарт,
Удержу не знал.
Бьет, бывало, чем попало
Всех подряд —
А ему в восторге все кричат:
ПРИПЕВ:
Вот это парень!
Вот это да!
Ты наша радость —
А ну, давай сюда!
И хоть ты тресни,
Хоть песни пой,
Ты будешь с нами,
А мы с тобой!
Жил на свете Дон Жуан,
Славный паренек.
Обижал он нежных дам
Как хотел и мог.
То одной изменит он, то этой, то той —
А они кричат наперебой:
ПРИПЕВ.
Не имею я грехов,
Сколько ни копай.
Ежедневно я готов
Возноситься в рай.
Но едва я достигаю вышины,
Чёрт меня хватает за штаны:
ПРИПЕВ.
Бродячие актеры
То под гору, то в гору,
То стужа, то жара,
Бродячему актеру
Опять в поход пора.
Он странник и работник,
Страдалец и герой,
Отважный, как разбойник,
И гордый, как король.
ПРИПЕВ:
Улыбнись и песню пой
И смелей гляди вперед,
От печали в пути мало толку,
Вот увидишь, нам с тобой
Непременно повезет,
Потому что не везло слишком долго!
Театра и арены
Посланцы и друзья,
Для нас повсюду сцена,
А зритель – вся земля,
Мы с музыкой вступаем
В любые города
И в сердце попадаем
Без промаха всегда!
ПРИПЕВ.
Ars longa – vita brevis
(на мотив хора иудейских пленников из оперы Верди «Набукко»)
Занимайте места, музыканты,
Принимайтесь готовить к работе
Контрабасы, фаготы, литавры
И прекрасные флейты и скрипки свои!
В черно-белом ступая неспешно
И торжественно в бархате платий пурпурных,
Выходите и стройтеся хоры,
Раскрывайте прекрасные ноты свои!
Вот маэстро восходит, как царь на престол
(Тишина! Приготовьтесь! Вниманье!),
Вот он руки свои над головами простер
(Приготовьтесь, вниманье, друзья!)…
Вот бесшумно вознес к поднебесью
Тяжкий занавес крылья свои…
Начинай нашу вечную песню
О мечте и надежде во славу любви!
Наша вечная песнь – о мечте и любви.
Мы пришли, мы пройдем – ты вовеки живи!
Мы пройдем – ты живи!..
Жизнь продолжается
Был прогноз
Не ждать ни ветра, ни мороза,
Но мороз,
Наверно, не читал прогноза:
Щиплет щеки, обжигает нос.
И все же, невзирая на мороз,
Жизнь продолжается,
Жизнь продолжается,
И душа мечтать не устает!
Две войны.
Едва очнулись мы, и снова
Две войны,
Опять покоя никакого,
И неясно, что же впереди.
И все-таки, куда ни погляди,
Жизнь продолжается,
Жизнь продолжается,
И душа мечтать не устает!
– Как дела?
– Ой, о делах давай не будем.
– Как семья?
– Тогда давай дела обсудим.
– Как здоровье?
– Было и прошло.
Но выгляжу при этом хорошо!
Ночь темна,
А все равно рассвет настанет.
Снег, зима,
А все равно снега растают.
Видно, где-то твердо решено,
Что все же, невзирая ни на что – что?
Жизнь продолжается,
Жизнь продолжается,
И душа мечтать не устает!
И, разумеется,
Все, о чем мечтается,
Будет!
Обязательно!
Вот-вот!
Воспоминания
Моя мама, моя учительница
В 2003 году мы с сестрой впервые оказались на «Коммунарке» в десяти километрах от Москвы. Обширный кусок леса, огороженный высоким глухим забором. Бывшая дача Ягоды. Когда владельца расстреляли, дача отошла к НКВД, которым он до того командовал. Просторную поляну посреди леса до сих пор именуют «расстрельной». Здесь внавал зарывали убитых сталинской Лубянкой людей – среди них значится и наш отец. Ким Чер Сан, «японский шпион», как гласит обвинение 1938 года. Читал я его «дело» (сейчас Лубянка разрешает прямым родственникам знакомиться с этими папками). Два подробнейших самооговора: один записан собственноручно, другой – рукой следователя. На суде отец категорически отказался от показаний. Когда я получал «дело», эфэсбэшник пояснил: тогда многие подписывали под давлением следствия все, что им диктовали, – в твердой надежде, что, отказавшись от своих показаний на суде, получат шанс для справедливого пересмотра.
Расстреляли папу в тот же день, когда и осудили, – 13 февраля 1938 года.
И вот здесь, под снегом, лежат эти бесчисленные кости, и среди них наш отец. И уже никто не скажет, где именно, следов никаких. Осталось только тихо положить принесенные темно-бордовые розы прямо на этот снег под этот случайный куст.
Кого не убивали, везли в вагонзаках по всему Союзу. Эшелоны останавливались, теплушки открывались, человечье понурое стадо высыпалось наружу, сбивалось в длинную колонну и брело на зону. За колючки, в бараки. И там рассыпалось по шконкам, по двухъярусным нарам – в этаком-то стаде брела и наша мама, Нина Всесвятская, красивая, молодая (тридцать лет, всего-то!) учительница, мать двоих детей, виноватая в том, что была женой «японского шпиона».
Ну-ка, попробуем представить себе, что сейчас, спустя полвека, вваливаются к вам в дом амбалы в камуфляже, с короткими автоматами под мышкой и безапелляционно гонят в фургон с решетками, по обвинению в дискредитации президента, в активном пособничестве международному терроризму с целью развала России – а? Как? Трудно представить? То-то и оно, что легко. До будничного просто. Хоть я и абсолютно уверен в невозможности подобного поворота, но представить себе такую картину – плюнуть раз.
Безумный средневековый морок, охвативший советскую Россию, засел в наших печенках и поджилках и каждый день, час и миг выглядывает отовсюду, будь то самостийный культ Сталина на лобовом стекле родного КамАЗа (причем рядом с портретом Николая II) или горькие вопросы, то и дело возникающие в записках вроде этих. Как же это миллионы невиновных согласились сесть ни за что ни про что, а остальные миллионы против этого не возражали? Как же это: сибирская каторга за подобранный колхозный колосок? За рассказанный анекдот? За прочитанную книжку?
Пишу – и не слышу в себе никакого изумления: как же так? Да так как-то, ну что тут особенного? Молодую учительницу оторвали от детей, завели руки за спину и подтолкнули прикладом в пятилетнюю каторгу за то, что была женой человека, расстрелянного за шпионаж, которым он в жизни не занимался, и судьи об этом знали.
И все огромное женское стадо, высыпавшее с ней из эшелона, состояло из таких же, как она, ни в чем не повинных беспощадно осужденных. Осужденных, как принято говорить у милиционеров и юристов.
Сестре было почти пять, мне не было и двух, когда маму взяли. Важная разница. Дочь успела почувствовать мать, навсегда ощутить родство, и сознанием и подсознанием. Ну а я увидел маму сознательными глазами только в девять лет, будучи уже второклассником, и я помню это первое впечатление. Подмосковная станция Ухтомская, небольшая рощица перед нею, и на тропинке худенькая невысокая женщина с чемоданом. Совершенно мне незнакомая. Это мама.
До нее моей мамой была Фокина Агафья Андреевна, домработница, бывшая прислуга нашего дедушки, нарофоминского главврача. В войну она очень пригодилась: мы тогда жили в Ухтомке, у теток, девять человек в двух комнатах коммуналки. Работали трое. Мама Ганя вела хозяйство и надзирала над четырьмя детьми. Она была совсем деревенская, неграмотная сорокалетняя нянька, старая дева, ворчливая и обидчивая. Изо всех детей отличала она меня, и все, что отпустила ей природа для возможного материнства, она израсходовала на несчастного сироту, и все лакомые кусочки, какие удавалось ей утаить от общего котла, перепадали мне. Сестру мою, такую же сироту, она особо не жаловала и оставалась для нее «теть Ганей» – я же называл ее «мамой». Как только начал говорить, и вкладывал в это слово все, что должен вкладывать родной сын.
Когда же меня просветили, что есть еще и настоящая мама, находящаяся в длительной командировке, я легко принял эту игру и с увлечением в ней участвовал, чувствуя себя богаче других на целую еще одну мать.
Но вот каторжанка вернулась. Игра продолжилась. Однажды, бегая с ребятами во дворе, я позвал:
– Мама!
В окно высунулись сразу обе, улыбаясь:
– Какую тебе?
Я смутился. Нужна мне была мама Ганя, но я не хотел обидеть «настоящую». Махнул рукой и побежал дальше, не зная, что делать с моим смущением.
Вскоре, однако, с привычной и родной мамой Ганей пришлось расстаться – новая повезла нас с сестрой жить в Малоярославец, так было надо. Вернуться в Москву, где она жила до ареста, она не имела права, поселиться в областном центре – тоже, то есть даже Калуга была недосягаема. Получилось посредине, в Малоярославце, так было надо.
С ее судимостью она, по идее, как враг народа, никак не могла претендовать на должность учителя, но, видать, туго было с кадрами после войны, и в семилетку ее на работу таки взяли, хотя так было не надо, но так уж и быть. Через четыре года снова стало как надо, ее из школы выгнали, на этот раз уже капитально, вплоть до кончины Главного Педагога – после чего она уже беспрепятственно учительствовала вплоть до пенсии, на которую ушла разом, безоглядно, хотя была учительшей от Бога.