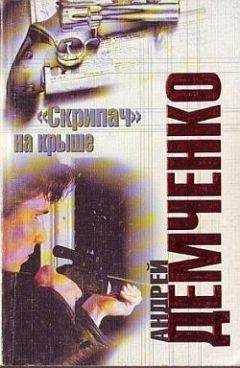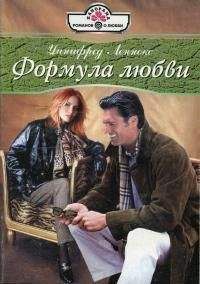Юджин О’Нил - Алчба под вязами
Почти все пьесы Юджина О'Нила написаны именно «эссенциями», причем сделано это сознательно, демонстративно, утрированно и с бесспорной долей эпатажа.
И все русские переводы эти «эссенции» сглаживают, все они чрезмерно «залитературены».
Я поставил себе очень трудную, но увлекательную задачу: в отличие от предшественников, передать «эссенции» оригинала средствами русского просторечия. В оригинале текст реплик не содержит ни одной фразы, которая не нарушала бы элементарных норм литературного языка, хотя лексика персонажей и дифференцирована: старый Кэбот нередко употребляет библеизмы, Эбби – единственная горожанка среди действующих лиц – пусть из захолустного городишки, но все же горожанка! – поэтому и речь у нее несколько грамотнее, чем у всех остальных. И каким-то чудом в корявых, грубых фразах персонажей налицо явственно ощутимый поэтический субстрат – насколько мне удалось это воспроизвести, судить не мне…
Как бы там ни было, но, кажется, в переводе нет ни одной литературно грамотной фразы. Зато нет в нем и ни одного русизма, то есть речения, порожденного русской историей или русским национальным бытом. (Вот несколько примеров. «Ободрать липку» – русизм, ибо липку обдирают для плетения лаптей. «Знай, сверчок, свой шесток!» – русизм, ибо шесток – атрибут именно русской печи. «Бабки» в значении «деньги» – русизм, ибо в англоязычных странах игра в бабки неизвестна.)
Впрочем, такой подход к передаче просторечия давно перестал быть редкостью, первые же его образцы – блистательные! – появились более тридцати лет назад: относящиеся к жанру юмористической фантастики рассказы Г. Каттнера о семействе гротескных мутантов Хогбенов в виртуозном переводе Н.М. Евдокимовой.
Как сказал великий знаток русского языка Сергей Владимирович Петров (излагаю его мысль своими словами), пусть лучше в переводе французский крестьянин говорит, как тамбовский мужик, чем как профессор филологии, причем не в домашней обстановке!
Но прежде всего дело, конечно, «в чувстве соразмерности и сообразности».
Несколько слов о переводе заглавия. Давно внедрившийся в сознание нашего читателя и зрителя вариант «Любовь под вязами» явно не годится: можно подумать, будто главное в пьесе – именно любовь Ибена и Эбби. (Вероятно, когда эту роль играла Алиса Георгиевна Коонен, так оно и было!) Однако существительное desire, стоящее в английском заглавии, значит совсем другое. Среди восьми его значений, приведенных в англо-русском словаре В.К. Мюллера, читаем: «(сильное) желание; страсть, вожделение; предмет желания; мечта». Четвертое и пятое значения из приведенных здесь для данного контекста не подходят; более уместным было бы «вожделение» или «страсть», ибо имеется в виду не только взаимное чувство Ибена и Эбби, которое превращается в любовь лишь к финалу пьесы, а до того может быть названо именно вожделением, даже похотью, но и вожделение, страсть всех персонажей к земле, к наживе, к золоту… Последние годы пьеса эта шла у нас в разных театрах, озаглавленная «Страсти под вязами» и даже просто «Под вязами». Первое из этих заглавий вызывает возражения, ибо порождает ассоциации, во-первых, с крестными муками Иисуса Христа, во-вторых, с рассказом Горького «Страсти-мордасти»; второе остроумно, и все же в стипль-чезе барьер не взят, а обойден стороной! Как же быть? Страсть, вожделение, влечение… Как можно сказать иначе? Некто испытал вожделение… Некто взалкал… Ага, алчность! «Алчность под вязами»? Не звучит… Но ведь есть и более «высокий», патетический и при этом как будто более просторечный синоним – «алчба». «Алчба под вязами» – видимо, то, что надо! Компактно, четко… Именно этот вариант я и выбрал. Feci, quod potui, faciant meliora potentes.[2]
Впрочем, это относится к переводу не только заглавия, но и всей пьесы.
В. Рогов
Речь по случаю вручения Нобелевской премии[3]
Во-первых, я хочу выразить Вам глубокое сожаление в связи с тем, что обстоятельства не позволили мне посетить Швецию во время этих празднеств и, присутствуя на банкете, высказать Вам лично мою благодарную признательность.
Трудно облечь в соответствующие слова глубокую благодарность, которую я испытываю за ту величайшую честь, какой когда-либо могло удостоиться мое творчество и о какой только можно мечтать – присуждение Нобелевской премии. Эта величайшая из почестей тем более приятна для меня, что, по моему глубокому убеждению, тем самым честь оказана не только моему творчеству, но и творчеству всех моих американских собратьев, – что Нобелевская премия – символ признания в Европе зрелости американского театра. Поскольку, в силу счастливого стечения времени и обстоятельств, – это просто наиболее широко известные примеры того, что создали американские драматурги за годы, истекшие после мировой войны, – того, что в конечном счете сделало современную американскую драму в ее лучших проявлениях достижением, которым американцы могут по праву гордиться, достойным наконец заявить о кровных узах, связывающих ее с современной драмой Европы, несомненно, изначальным источником нашего вдохновения.
Мысль об изначальном источнике подводит меня к величайшему для меня счастью, какое даровано мне данной ситуацией и которое состоит в том, что она предоставляет мне возможность с гордостью и благодарностью признать перед Вами и народом Швеции, чем мое творчество обязано величайшему гению из всех современных драматургов, вашему Августу Стриндбергу. Именно чтение его пьес, когда я впервые начал писать еще зимой 1913–1914 гг., больше, чем что-либо иное, впервые показало мне, чем может стать современная драма, и впервые вдохновило меня, пробудив у меня самого желание писать для театра. Если есть в моем творчестве что-то неподвластное времени, оно восходит к этому изначальному данному им импульсу, с тех пор продолжавшему вдохновлять меня все эти годы, – к тому полученному мною тогда стремлению следовать по стопам гения с той же целеустремленностью и будучи настолько достойным его, насколько это мог бы позволить мой талант.
Для вас, в Швеции, не будет, конечно, новостью, что мое творчество во многом обязано влиянию Стриндберга. Это влияние ясно ощутимо в немалом числе моих пьес и без труда заметно каждому. Не будет это также новостью ни для кого из тех, кто когда-либо был знаком со мной, так как я сам всегда это подчеркивал. Я никогда не принадлежал к тем, кто так неуверен и сомневается в собственном своем вкладе, что им кажется, будто они не могут позволить себе признать, что на них кто-то когда-то оказал влияние, чтобы у них тогда не обнаружилось отсутствие всякой оригинальности.
Нет, я слишком горжусь тем, что я в долгу у Стриндберга, я слишком счастлив, что у меня есть возможность открыто объявить об этом его народу. Для меня он, как в своей области и Ницше, остается Мастером, все так же и по сей день более современным, чем любой из нас, все так же нашим лидером. И я с гордостью рисую в воображении, что его дух, размышляя о Нобелевской премии по литературе нынешнего года, быть может, улыбнется с некоторым удовлетворением и сочтет, что последователь не так уж недостоин Мастера.
Послесловие
О'Нил и американская драма
Творчество Юджина О'Нила – одна из самых ярких страниц в богатой истории американской литературы двадцатого столетия. Современник Драйзера и Фроста, Скотта Фицджеральда и Эрнеста Хемингуэя, Уильяма Фолкнера и Томаса Стернса Элиота, Уоллеса Стивенса и Томаса Вулфа, Каммингса и Дос Пассоса, он своими произведениями бесстрашно пролагал новые пути в искусстве, помогая отечественной литературе освобождаться от мертвого груза окостеневших форм, непригодных для воплощения художественного сознания эпохи, мешающих постижению истины.
Особенно велика роль О'Нила в развитии американской драмы. Если проза и поэзия обосновались на американских берегах еще во времена первых поселенцев, достигнув необычайного расцвета в середине XIX в. в творчестве блестящей плеяды писателей, таких, как Вашингтон Ирвинг, Эдгар По, Генри Дэвид Торо, Натаниэль Готорн, Герман Мелвилл, а немного позже – Уолт Уитмен и Марк Твен, американская драма как вид национального искусства отсутствовала вообще вплоть до XX в. Своим рождением она обязана одному человеку – Юджину О'Нилу.
Сын известного актера ирландского происхождения, О'Нил (1888–1953), навсегда сохранивший верность своим ирландским корням, с детства был прекрасно знаком с американским театром. То, что он там видел, вызывало у него глубокое неприятие, столь резкое, что это долго мешало будущему великому драматургу осознать свое истинное призвание. На протяжении столетия в Америке существовал лишь коммерческий театр, откровенно ставивший своей целью обеспечение прочного кассового успеха и развлечение непритязательного зрителя, угождение вкусам которого прежде всего и определяло направление и характер его деятельности. В открытом противостоянии этому театру, пренебрегавшему ценностями искусства, не дававшему простора творческой мысли, и предстояло утвердиться американской драме.