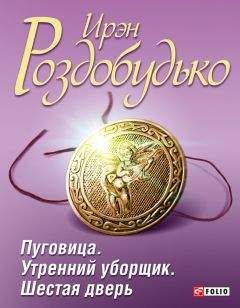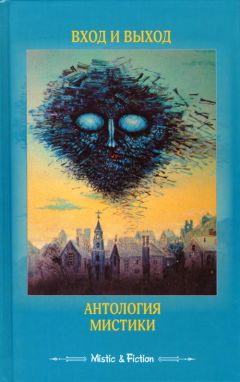Август Стриндберг - Красная комната. Пьесы. Новеллы (сборник)
Фрекен. Но как дорого она обходится! Стоит ли жизнь таких трудов?
Студент. Ну, это смотря по тому, какой награды ждешь за свои труды… Я ни за чем бы не постоял, только бы получить вашу руку.
Фрекен. Молчите! Никогда я не буду вашей!
Студент. Почему?
Фрекен. И не спрашивайте.
Пауза.
Студент. Вы уронили в окно браслет…
Фрекен. Да, просто у меня рука похудела…
Пауза. Кухарка появляется в дверях с японской бутылкой.
Вот кто сожрет меня и нас всех!
Студент. А что это у нее в руках?
Фрекен. Это красящая жидкость, со знаками скорпиона на бутылке! Это соя, обращающая воду в бульон, заменяющая соус, в котором варят капусту, из которого делают черепаховый суп.
Студент. Вон отсюда!
Кухарка. Вы сосете соки из нас; а мы из вас; мы берем вашу кровь, а вам возвращаем воду — подкрашенную. Это краска! Ладно, я уйду, но только когда мне самой захочется! (Уходит.)
Студент. За что у Бенгтсона медаль?
Фрекен. За его великие заслуги.
Студент. И у него вовсе нет недостатков?
Фрекен. О! Недостатки у него тоже великие, но за них не дают медалей.
Оба смеются.
Студент. В вашем доме такое множество тайн…
Фрекен. Как в каждом доме… Господь с ними, с нашими тайнами…
Пауза.
Студент. Вы любите откровенность?
Фрекен. Пожалуй, но до известного предела.
Студент. Порой на меня находит безумное желание высказать все, все; но я знаю — мир бы рухнул, если б мы были до конца откровенны. (Пауза.) На днях я был в церкви… на отпевании… как торжественно и прекрасно!
Фрекен. Это когда отпевали директора Хуммеля?
Студент. Да, моего мнимого благодетеля! У изголовья гроба стоял друг усопшего, пожилой человек, и он же потом первый шел за гробом; пастор особенно тронул меня достоинством жестов и проникновенностью речи. Я плакал, все мы плакали. Потом мы отправились в трактир… И там я узнал, что тот пожилой друг усопшего пылал страстью к его сыну…
Фрекен смотрит на него пристально, не понимая.
Усопший же брал взаймы у поклонника своего сына. (Пауза.) А через день арестовали пастора — он ограбил церковную кассу! Прелестно!
Фрекен. Ух!
Пауза.
Студент. Знаете, что я про вас думаю?
Фрекен. Нет, не говорите, не то я умру!
Студент. Нет, я скажу, не то я умру!
Фрекен. Это в больнице люди говорят все, что думают…
Студент. Совершенно верно! Отец мой кончил сумасшедшим домом…
Фрекен. Он был болен!
Студент. Нет, он был здоров. Только он был сумасшедший! Вот как-то раз это и обнаружилось, и при следующих обстоятельствах… Как у всех у нас, были у него знакомые, которых он для краткости именовал друзьями; разумеется, кучка ничтожеств, то есть самых обычных представителей рода человеческого. Но надо же ему было с кем-то водить знакомство, он не выносил одиночества. Мы ведь не говорим людям, что мы про них думаем, вот и он тоже ничего им не говорил. Он видел их лживость, понимал их коварство… но он был человек умный и воспитанный и обходился с ними учтиво. А как-то раз у него собралось много гостей; дело было вечером, он устал за день работы, и вдобавок ему приходилось напрягаться — то сдерживаться и молчать, то молоть всякий вздор с гостями…
Фрекен пугается.
Ну и вот, вдруг он просит внимания за столом, берет стакан, собирается говорить тост… И тут отказали тормоза, и он в длинной речи разделал присутствующих по очереди, всех до единого, объяснил им, как все они лживы. А потом, усталый, сел прямо на стол и послал их всех к чертям!
Фрекен. Ух!
Студент. Я был при этом, и я никогда не забуду, что тут началось!.. Мать с отцом стали ссориться, гости бросились за дверь… и отца отвезли в сумасшедший дом, и там он умер! (Пауза.) Долгое молчание — как застойная вода. Она гниет. Вот так и у вас в доме. Тут тоже пахнет гнилью! А я-то решил, что здесь рай, когда увидел однажды, как вы выходили на улицу! Было воскресное утро, я стоял и смотрел; я видел полковника, и вовсе он был не полковник; у меня был благородный покровитель, и он оказался разбойником, и ему пришлось удавиться; я видел мумию — никакую не мумию, я видел деву… кстати, куда делось целомудрие? Где красота? В природе ли, в душе ли моей, когда все в праздничном уборе! Где честь и вера? В сказках и детских спектаклях! Где человек, верный своему слову? В моей фантазии! Вот цветы ваши отравили меня, и сам я сделался ядовит! Я просил руки вашей, мы мечтали, играли и пели, и тут вошла кухарка… Sursum corda![111] Попытайся же опять извлечь пурпур и пламя из золотой своей арфы… попытайся же, я прошу, я на коленях тебя молю… Ладно же, я сам! (Берет арфу, но струны не звучат.) Она нема, глуха! Подумать только — прекраснейшие цветы — и так ядовиты, самые ядовитые на свете! Проклятье на всем живом, проклята вся жизнь… Отчего не согласились вы стать моей невестой? Оттого что вы больны и всегда были больны… вот, вот, кухонный вампир уже сосет из меня соки, это Ламия[112], сосущая детскую кровь, кухня губит детей, если их не успела выпотрошить спальня… одни яды губят зренье, другие яды открывают нам глаза. И вот с ними-то в крови я рожден, и не могу называть безобразное красивым, дурное — добрым, не могу! Иисус Христос сошел во ад, сошествие во ад было Его сошествие на землю, землю безумцев, преступников и трупов; и глупцы умертвили Его, когда Он хотел их спасти, а разбойника отпустили, разбойников всегда любят! Горе нам! Спаси нас, Спаситель мира, мы гибнем!
Фрекен падает, бледная как мел, звонит в звонок, входит Бенгтсон.
Фрекен. Скорее ширмы! Я умираю!
Бенгтсон возвращается с ширмами и ставит их, загораживая фрекен.
Студент. Идет Избавитель! Будь благословенна, бледная, кроткая! Спи, прекрасная, спи, бедная, спи, невинная, неповинная в страданьях своих, спи без снов, а когда ты проснешься… пусть встретит тебя солнце, которое не жжет, и дом без грязи, и родные без позора, и любовь без порока… Ты, мудрый, кроткий Будда! Ты ждешь, когда из земли прорастет небо, пошли же нам терпения в скорбях, чистоты в помыслах, и да не посрамится надежда наша!
Вдруг звучат струны арфы, комната полнится белым светом.
Солнце зрел я, и
Сокрытый встал передо мною.
Каждый небесам подвластен.
Всяк в грехах покайся.
Злобы не питай к тому,
Кому вредил успешно.
Всяк блажен, добро творящий.
Оскорбленного — утешь,
Лишь в самом добре — награда.
И блажен невинный.
За ширмами слышится стон.
Бедное, милое дитя, дитя ошибок, греха, страданья, смерти — дитя нашего мира, мира вечных перемен, разочарования и боли! Отец Небесный да будет милостив к тебе…
Комната исчезает; задник — «Остров мертвых» Беклина[113]; музыка, тихая, нежно-печальная, плывет с острова.
Я видел солнце,
И мне казалось,
Что зрю Сокрытого;
Всяк блажен, добро творящий,
Если и соделал зло,
Злобою не искупай.
Успокой, кого обидел,
В доброте твоя награда.
И блажен невинный.
НОВЕЛЛЫ
Муки совести
(перевод С. Фридлянд)
После Седана миновало две недели[114], другими словами, была середина сентября 1870 года. Копировальщик прусского геологического управления, а на сей раз лейтенант из резервистов господин фон Блайхроден сидел без сюртука за письменным столом в одной из комнат Cafe du Cercle — самого изысканного заведения деревеньки Марлотт. Форменный сюртук со стоячим воротником лейтенант повесил на спинку стула, и тот поник, будто мертвое тело, судорожно обвив пустыми рукавами ножки стула — как бы на случай внезапного падения головой вперед. На правой поле остался след от портупеи, левая была до блеска истерта ножнами, а спинка была пыльной, как проселочная дорога. По низкам своих изношенных брюк господин геолог в звании лейтенанта мог бы даже вечером без труда изучать третичные отложения в данной местности, когда же к нему являлся вестовой, он по следам от грязных сапог безошибочно устанавливал, какие формации лежали на пути вестового — эоценовые или плиоценовые.
Господин лейтенант и впрямь был более геолог, нежели солдат, но он был прежде всего сочинителем письма. Он сидел, сдвинув очки на макушку, держа в руках перо и глядя за окно, где во всей осенней красе раскинулся сад с яблонями и грушами, чьи ветви клонились к земле под тяжестью великолепных плодов. Оранжево-красные тыквы нежились на солнышке возле колючих серо-зеленых артишоков; рядом с белыми, как хлопок, кочанами цветной капусты карабкались по жердочкам огненно-красные помидоры; подсолнухи величиной с тарелку поворачивали свои желтые круги к западу, куда начало клониться дневное светило; целые рощи георгин, белых, словно накрахмаленные льняные простыни, пурпурно-красных, словно запекшаяся кровь, грязно-красных, словно свежая убоина, нежно-красных, словно требуха, серо-желтых, желтых, как кудель, пятнистых, с разводами, пели слитную ораторию красок. Песчаную тропинку охраняли два ряда гигантских левкоев — сиреневых, ослепительных льдисто-синих либо соломенно-желтых, они углубляли перспективу до того места, где начинались буро-зеленые виноградники, напоминая рощу вакхических жезлов с краснеющими гроздьями, полускрытыми листвой. На заднем плане белело несжатое ржаное поле, и скорбно клонились к земле наливные колосья с торчащей остью и чешуйками, что осыпались при каждом порыве ветра, возвращая земле ее дары и набухая соками, будто материнская грудь, от которой отняли младенца.