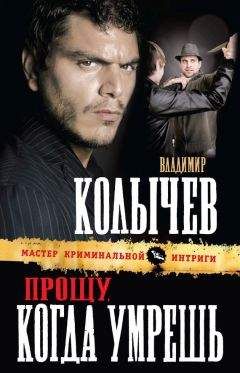Андрей Платонов - Том 6. Дураки на периферии
Алеша. Зажиточная, должно быть.
Кузьма. Хады…
Алеша укрощает Кузьму.
Мюд (к иностранцам). Вы что такое?
Стерветсен. Мы… теперь неимущий дух, который стал раскулачен.
Серена. Мы читали, и нам производили… Папа, информасьон?
Стерветсен. Четкое собеседованье, Серен.
Серена. Собеседованье, когда говорили: вы буржуазию, и еще раз полклясса и еще крупный клясс четко послали на фик!
Мюд. Она хорошая, Алеша. Мы их на фик, а они с фика, и сама же ясно говорит…
Стерветсен. Я был молод и приезжал давно в Россию существовать. Я жил здесь в девятнадцатом веке на фабрике жамочных пышечек. Теперь я вижу — там город, а тогда здесь находился редкий частичный народ и я плакал пешком среди него… да, Серен!
Серена. Что, папа? Кто эти люди — батраки авангарда?
Мюд. Ты дурочка-буржуйка: мы поколенье — вот кто!
Стерветсен. Они — доброе мероприятие, Серен!
Алеша. А вам что здесь надо среди нашего класса?
Стерветсен. Нам нужна ваша небесная радость земного труда…
Алеша. Какая радость?
Стерветсен. У вас психия ударничества, на всех гражданских лицах находится энтузиазм…
Мюд. А вам-то что за дело?.. Раз мы рады!
Стерветсен. У вас организована государственная тишина и сверху ее стоит… башня надлежащей души…
Мюд. Это надстройка! Не знаешь как называется — мы вас обогнали!!
Стерветсен. Надстройка! Это дух движения в сердцевине граждан, теплота над ледовитым ландшафтом вашей бедности! Надстройка!!! Мы ее хотим купить в вашем царстве или обменять на нашу грустную, точную науку. У нас в Европе много нижнего вещества, но на башне угас огонь. Ветер шумит прямо в наше скучное сердце — и над ним нет надстройки воодушевления… У нас сердце не ударник, оно… как у вас зовется… оно — тихий летун…
Серена. Папа, ты скажи им, что я…
Кузьма. Рвачка! Сила элемента…
Серена (на Кузьму). Он знает все, как патрон…
Мюд. Кузя-то? Он ведь нам подшефный элемент!
Стерветсен. Где у вас разрешается закупить надстройку? (Показывая на город). Там?.. Мы много дадим валюты! Мы отпустим вам, может быть, алмазный заем, корабли канадского зерна, наши датские сливки, две авиаматки, монгольскую красоту созревших женщин — мы согласны открыть вам наши вечные сейфы… А вы — подарите нам одну надстройку! На что она вам? У вас же есть база, живите пока на фундаменте…
Кузьма (грозно рычит). Хитрость классового врага… Пап-па римский…
Алеша (укрощая Кузьму). Ага. Ты хочешь закрыть у нас поддувало и сифон?! Чтоб мы сразу остыли!
Мюд (шепотом Алеше). Фашисты! Не продавай надстройки!
Алеша. Не буду.
Серена. Папа, нам давали понятие вопроса — у них лежат установки. Купи тогда Европе установку. Надстройку им ведь жалобно дарить!
Стерветсен. Продайте установку! Я вам дам доллары!
Мюд. А у нас есть одна только директивка, и то маленькая.
Серена. Купи, папа, директивку. Надстройку экстремизма ты купишь после вдалеке.
Алеша. Мы директивы за фашистские деньги не продаем.
Мюд (трогает револьвер на бедре Серены). Отдай мне. У нас культурная революция, а ты с пистолетом ходишь. Как не стыдно?
Серена (недоуменно). А вам он сильно нужен?
Мюд. Ну, конечно, У вас ведь нет культурной революции, вы ведь темные, злые, и нам полагаются от вас наганы…
Серена. Возьмите. (Отдает револьвер).
Мюд. Спасибо, девочка. (Целует сразу Серену в щеку). Кто нам сдается, мы тому все прощаем.
Серена. Папа, Совет Юнион очень мил! (Алеше). Сыграйте фокс!
Алеша. Советский механизм не смеет.
Стерветсен и Серена кланяются и уходят.
Мюд. Алеша, а как же они купят идею, когда она внутри всего тела?! Нам ведь больно будет вынимать!
Алеша. Ничего, Мюд. Я им продам… Кузьму. Ведь он — идея. А буржуазия от него помрет.
Мюд. Алеша, мне будет жалко Кузьму…
Кузьма. …Отсталость… Бойтесь капитализма…
Алеша. Не скучай, Мюд. Мы закажем себе другого, а то Кузьма уже отстал чего-то от масс. (Заводит Кузьму).
Кузьма начинает шагать со скрежетом внутри, бормоча невнятное железными устами. Все трое уходят. За сценой, уже невидимые, они поют песню в несколько слов. Алеша и Мюд петь перестают, а Кузьма, удаляясь, все еще тянет в одиночку чугунным голосом: «Э-ээ-э…».
Картина вторая
Учреждение — среднее между баней, пивной и бараком. Теснота служащих, чад, шум. Две уборные, две двери в них. Двери уборных открываются и затворяются: разнополые служащие пользуются уборными.
Щоев — за громадным столом. На столе рупор-труба, которой он пользуется для разговора со всем городом и кооперативами: город невелик и рупор слышен всюду в окрестностях.
Щоев (всему бушующему в делопроизводстве учреждению). Дайте мне задуматься. Прекратите там доносящиеся до меня запахи желудка.
Двери уборных закрываются. Наступает всеобщая тишина. Щоев задумывается. Желудок его начинает ворчать; ворчание усиливается.
(Тихо). Болит мое тело от продовольственных нужд. (Гладит свой живот). Как задумаюсь, так и живот бурчит. Значит, все стихии тоскуют во мне… (В массу служащих). Евсей!
Евсей (невидимо где). Сейчас, Игнат Никанорович. Сейчас капустку с огурчиком подытожу и к вам явлюсь.
Щоев. Итожь их быстрей, не сходя с мета. А я потом сам поутюжу твои числа. Ответь мне подробно, что мы сегодня непайщикам даем.
Евсей (невидимо). Клей!
Щоев. Достаточно. А завтра?
Евсей. Книгу для чтения после букваря, Игнат Никанорович.
Щоев. А вчера?
Евсей. Мухобойный порошок системы Зверева, по полпачки на лицо.
Щоев. Разумно ли, Евсей, бить порошком мух?
Евсей. А отчего же нет, Игнат Никанорович? Ведь установки на заготовку мух пока не имеется. Утиль тоже насекомых продолжает отвергать.
Щоев. Я не о том горюю — не перебивай ты мне размышления… Я тебя спрашиваю: что птицы-голуби или прочие летучие, что они будут есть, когда ты мух угробишь? Ведь летучее — это тоже пищевой продукт.
Евсей. А летучих в нынешнем году не ожидается, Игнат Никанорович. Их южнорайонные кооперативы вперед нас перехватили и заготовили. Мы весной, Игнат Никанорович, пустое небо ожидаем. Теперь муха звереть без птицы начнет.
Щоев. Ага, ну нехай так. Пусть жрут летучих. Проверь мне через область телеграфом — не крадут ли в районе установок? Десять суток циркуляров нет — ведь это ж жутко, я линии не вижу под собой!
Играет шарманка на дворе учреждения — старый вальс. Учреждение прислушивается. Щоев тоже.
Евсей (все еще невидимый). Не подать ли музыканту монету, Игнат Никанорович? Все-таки культработник человек!
Щоев. Я тебе подам! Давалец какой! У нас финплан не выполняется, а он средства разбазаривает! Ты пойди у него на дирижабль пожертвование отбери — вот это так!
Евсей показывается, вставая из массы служащих, и уходит вон. Шарманка играет беспрерывно. Переговорная труба на столе Щоева начинает гудеть. Шарманка затихает.
(В трубку). Алла!.. Ты кто? Говори громче, это я — другого нету!
Эти слова, сказанные в трубу, повторяются затем, втрое усиленные, где-то за стенами учреждения, и это от них раздается в окрестных пространствах, пустота которых чувствуется в долготе и скуке многократно отраженных звуков. Разговор по трубе должен происходить этим порядком; особых ремарок, на каждый раз не будет.
Далекий голос (извне учреждения). Грыбки, Игнат Никанорович, червиветь начинают. Дозвольте скушать работникам прилавка — иль выдать массе!
Труба на столе через секунду-две повторяет эти же слова совершенно другим голосом — более глухим, с другим выражением и даже с иным смыслом.
Щоев (в трубу). Какие грыбы?
Далекий голос (за сценой). Грыбки годовалые, соленые, моченые и сушеные…