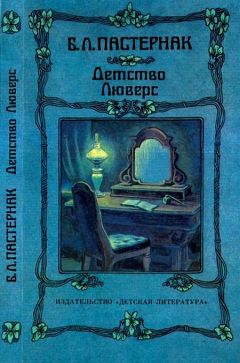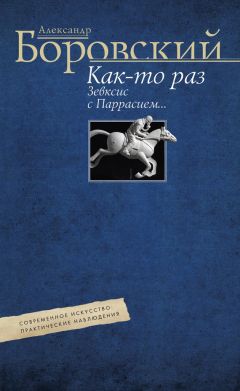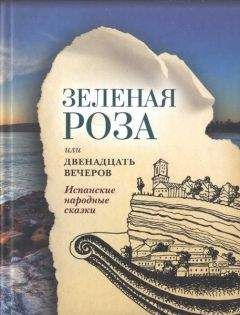Борис Пастернак - Люди и положения (сборник)
– Кнауер! – донеслось со стороны гостиницы. Гувернер обернулся, как будто этот зов относился к нему.
– Кнауер! – звали его с деревянной галереи, шедшей с надворной стороны вдоль всего второго этажа.
Гувернер, выйдя из толпы, направился к этой группе, стоявшей у перил галереи. Он вглядывался в них и узнавал их. Он узнал Туха, Штурцваге, Розариуса и узнал всех, кроме двух-трех ему незнакомых людей. Он был страшно взволнован и непременно снял бы шляпу и стал махать ею, чтобы с лужайки уже подать знак о чувствах радости, заполнивших его горло, им на галерее, тронутым отблеском заката, если бы шляпа была при нем; но он сошел поглядеть на зверей, позабыв надеть шляпу.
О чем они говорили наверху – неизвестно. Переговоры их были непродолжительны. Вскоре на галерее показался Тух, вполоборота беседуя со следовавшими за ним товарищами. Они прошли двором на улицу и разошлись по домам. Целью их прихода была информация Кнауера, как они это называли. Они шли сюда, чтобы поставить Кнауера в известность о том, что ходатайство о принятии его на службу городским органистом не только отклонено. Но они видят в нем редкий по его дерзостности образец занесшегося безумия. И это – не только ввиду того, что место органиста никак не вакантно еще пока, как он по неискоренимому его самомнению не мог не думать, но еще и потому, и в особенности, что присутствие его в городе недопустимо и дальше ни в коем случае терпимо быть не может по некоторым, ему самому лучше других известным, причинам, которые удесятерились сегодня в числе и в весе после того, как он, никого не спросясь, не спросясь даже голоса собственной совести – на это они напирали, – осмелился хозяйничать по своему произволу в церкви, распорядившись по-своему вещью, которая, – и на это они напирали тоже, – должна была бы стать неприкосновенною святыней для него, и страшною святыней.
Их целью было информировать Кнауера, и хотя неизвестно, о чем они говорили с ним, но можно думать, что они успели и достигли своего.
Когда они от него вышли, на лицах их не было уже того смущения, с каким они шли сюда. Слог резолютивного эдикта, который был прочтен Кнауеру Тухом вслух, владел еще всеми их движениями, когда они прошли двором гостиницы. Слог этот облегал еще их старческие станы ортопедическим корсетом, подоткнутым под короткие брюки, и строгая почтительность намордником приструнивала <их лица>. Они отходили уже от этой апоплексии, когда ее как рукой сняло заявление Грунера:
– Да! Я ведь Игнаца спрашивал. Медведица действительно околела.
– Околела?!
И они вышли в ворота.
Зеебальда не было среди них. Когда на следующий день он перед обедом зашел в гостиницу наведать Кнауера, он уже значился выбывшим. Оба приезжие покинули город еще поутру.
Тем и кончается повесть о двойной октаве и начинается басня про недобрую славу Кнауера. Басня эта не басня даже, а побасенка.
Мартенc, тоже органист, бывший у Кнауера при чтении резолютивного эдикта, человек высокой наблюдательности и очень незлобивый, долго еще впоследствии, случалось, припоминал остальным своим товарищам по предмету информации Кнауера, как странно вел себя последний.
– Ну, не чудак ли! Ему говорят о гневе Господне. Он и ухом не ведет. Ну, допустим, безбожник. Ему – Тух, должен я сказать, хватил все-таки через край, меня выхваливая, – это я не из скромности говорю, – но правда же: несчастная, нуждающаяся женщина, покинутая мужем, – ну как не помочь – всякий из нас бы – и потом – покойница Доротея ангельской кротости была, надо быть справедливым. Чудак! Тух на меня указывает: этот достойный муж, я уж не помню подлинных его слов, – да! – если бы не этот человеколюбивый и достойнейший муж (право же, чересчур лестно), бывший ей вторым, если можно так выразиться, супругом, принимая во внимание бескорыстное его участие в судьбе вашей супруги и т. д. и т. д. А он! Он и это мимо ушей пропускает. Чудак! Ну, допустим, – старик; в чувствах медлен. Какой там старик! Ему вскользь роняют, что он, мол, заступил вас в должности или что-то в этом роде, – и этот чудак вскидывает на меня глазами и только тут-то и обнаруживается, что он не окончательно немой. «Вы – органист?!» Ну так как же не чудак! Это ведь единственные его слова за все то время, что мы у него провели. Чудак, что и говорить. Дивлюсь вам всем, господа, простите. Явись я немного раньше в Ансбах…
– Ну?
– Живи я здесь в его времена, как все вы? – я бы по первому же взгляду его определил. Предсказал бы все. Вот как.
1917
Петербург
1
Вокзал
Поезд последними широкими шагами, как спешащий, достигающий цели и приободрившийся пешеход, отпыхиваясь, остановился у дебаркадера и стал сдавать пассажиров. Он вынимал их, как добрый святочный гость игрушки из оттопыренных карманов, и расставлял по платформе. Сначала они, бессильные и непонимающие – где они и что с ними, – группировались и чернели каждый у своего кармана – вагона. У них тоже оказывались свои карманы, из которых тоже что-то вынималось, и уже после этого они приходили в действие, словно у них кто-то заводил механизм, и опять игрушечно, не по-настоящему, не по-людски быстро-быстро, толкая друг друга и, ничего не видя вокруг себя, они бросились в направлении летящей и прибитой к серой стене вокзала стрелы и рядом с ней черного слова – «вход»! Эта стрела символизовала их стремительность.
Не дойдя до барьера решетки, люди натыкались на обратный полет той же стрелы с надписанным внизу словом – «выход!..» И трудно себе представить, что сталось бы с городом за время существования ж<елезной> д<ороги>, если бы не этот «выход»!.. При этом они поднимали головы, вытягивая шеи друг над другом, как будто что-то главное было там впереди и из-за него они могли не видеть окружающего. Они набегали друг на друга, механически, как заводные, говорили «pardon», это спасающее когда-то русских французское слово, на звук которого, как на пароль, сдавалось все: произнесший его мог безнаказанно толкнуть еще раз и проложить себе дорогу к цели. Знанием этого слова обладали не все, и не обладавшие им оставались позади.
В этой механизированной обстановке сегодня было четыре «живых» человека. Они вышли со своим несложным ручным багажом и, сразу выделяясь из всех обычных узаконенных своим неожиданным внешним видом, казалось, требовали к себе чьего-то особенного внимания.
Это внимание было им уделено. За ними наблюдал кто-то такой же свежий, такой же неслизанный языком однообразия, и этот наблюдатель звался Жизнью.
Жизнь сразу же отметила своих и здесь. Во-первых, она им подсказала, что там, где топчутся, – и топчут. И что поэтому им следует быть здесь настороже – в особенности, если у них есть свои завоевательные планы. А планы эти были, и были вывезены оттуда, откуда вместе с Жизнью перекочевали они сюда…
На каждой станции и при всяком удобном случае из окна вагона, в особенности, когда можно было его открыть и высунуться, сверялись они с нею, – она с ними. Часто влетала она шумом ветра на повороте или уклоне густым и свежим, сдавленным в оконный глоток воздухом; врывалась в вагон и шевелила пальцами волосы своих четырех сыновей.
Нетерпеливая, как мать, она то и дело справлялась о них и, обласкав, вылетала обратно, оставляя детей дотерпевать день и потом полдня и, наконец, несколько минут в этих вневременных домиках геометрически закупоренных от «настоящего» и катящихся между прошлым и будущим.
Иногда было странно, отводя глаза от шелухи подсолнухов, окурков и плевков на полу вагона, встретиться с вечером или полднем там. Там все это было и подавалось в окно большими, щедрыми и аппетитными кусками: – то это было стадо, сгоняемых к водопою слитно мычащих коров, – и это означало полдень в августе. То это была кавалькада бесседельных наездников, мчащихся вихрем в обгонку поезда ниже насыпи мальчуганов, и это был вечер, торопящий звезды и тишину покоя и созерцания: «в ночное». То это была девушка, садящаяся в соседний вагон 2-го класса и провожающая ее остающаяся здесь мать. Тогда это был такой-то год; революционное время; такой-то год девушки, порывающей со своим прошлым: с теплым крылом матери, с знакомой лампой в столовой по вечерам, с знакомой ночной библиотечной полкой, откуда рвался мир, в который теперь рвалась она, с знакомыми голосами птиц под окном и – что все то, что там позади, исчезнет с ее отъездом.
В жертвенный рот постоянного движения поездов совались куски пейзажа, целые жизни. Казалось все, что текло, притекало роковым образом к рельсам и покорно склоняло свою голову на рельсовый путь, и железное чудовище торжественно перерезало в каждом метре своего вращения бесчисленные жертвы выкупающей будущее, – пошедшей на приманку быстроты, – жизни. Жизнь поэтому заглядывала в вагоны вездесущим глазом, отыскивала своих и предостерегала их: «Я здесь!»…
«Здесь, здесь!..» – рубили колеса на стыках…
Теперь жизнь предупреждала своих четырех: