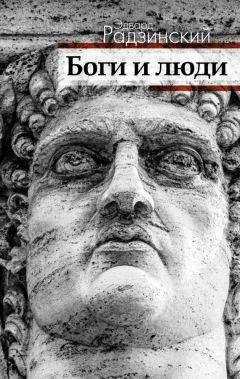Эдвард Радзинский - О себе (сборник)
Эти набрякшие мешки под глазами… да ты… старая калоша! (Хохочет.) А может ли Дон Жуан быть старым? Ну сам посуди, морда, что молчишь? Погляди-ка мне в глаза, видал? Горят мои глаза! Потому что — орел! Дон Жуан! А у тебя? Слезятся?!
Анна. Но почему я знаю этот голос… Почему я помню… лицо?..
Лепорелло. Но, ласточка! Так он же приходил к тебе от меня три тысячи лет подряд! Он же слова мои приносил вчера! Это же он — мой слуга Лепорелло!
Д. Ж. застонал.
Только он у меня немножко стал… того… с приветом, от старости… Дебил!.. Все-таки три тысячи лет служить! И кто его только не бил, сердечного… за эти годы… Ведь так, Сганарель? (Внезапно дает пощечину Д. Ж.) Д. Ж. Ты… ты… ты… (Бросается на Лепорелло.) Лепорелло (легко сбивая его с ног). Но — тихо! Тихо, Калатинион! Я ведь теперь твой хозяин! А? Что? Гармония! (И он начинает беспощадно лупить Д. Ж.) Анна (истерически). Не надо! Я прошу! Лепорелло. Что ты… Это ему хорошо для здоровья. Врачи с поликлиники говорят, что от трепки он в себя приходит! Так, Сганарель? (Анне.) У него три имени: обычно я зову его Сганарель. Ну а когда он ведет себя хорошо, зову ласково — Лепорелло! Ну а когда плохо — Калатинион — от слова «колотить».
Беспощадно лупит Д. Ж. — Д. Ж. падает.
Д. Ж. (хрипло). Не надо бить.
Анна в ужасе смотрит.
Лепорелло. Ну вот и получше пошло дело. (Взглянул на часы.) Принеси-ка портфельчик, Аннушка… В прихожей он… Пора нам.
Анна, оглядываясь на Д. Ж., пятясь, уходит.
Что ж ты, ботинки снять не мог — наследил… А я, честно скажу, боялся! Думал, все-таки ты — Дон Жуан, специалист, тысячи лет практики! Но правду говорил отец в древности: «Не боги горшки обжигают». Я хоть прост, да смекалист. Оказалось, главного ты не знал: за три тысячи лет не понял, тупица. Главное — не стихи. Главное — молчать. Скажи ей: я — Дон Жуан. И — в тряпочку! Дальше она все за тебя выдумает, как ей захочется. Женщины — они такие фантазерки! И не балованные… Все обижаешься?.. Да ты благодарить меня должен! Тебя воскресили, так ты трудись. Не хочешь работать, хочешь думать — освободи место!..
Возвращается Анна с портфелем. Д. Ж. неотрывно глядит на нее.
Анна. Что ты смотришь на меня, старик?
Д. Ж. Я жду, когда ты вспомнишь «великую любовь».
Лепорелло. Ах, ты опять за свое?! (Рванулся.)
Анна. Не надо. Оставь его.
Лепорелло остановился.
Я вспомнила. Я расскажу тебе, лакей. «Великая любовь»… это жить им — днем, ночью, на рассвете, задыхаясь в подушку от слез. Это когда сжигает… это когда он опоганил твой дом, убил твое замужество, ограбил твою постель… а-а-а, еще вспомнила: «Великая любовь»… это когда тебя все проклинают! Тысячу лет подряд называют шлюхой! Обвиняют во всем — в том, что из-за тебя сгорела Троя, в том, что плохо учится его ребенок, что погиб твой муж, что его жена дурно выглядит… «Великая любовь» — это снотворное, снотворное… снотворное… и слезы… и больная голова, и желчь во рту… «Великая любовь» — это анализы мочи… и страх… и…
Д. Ж. (в ужасе). Ты… ты…
Анна (прерывая его, кричит). Нет! Я не знаю, кто ты! И я не хочу знать! (Указывая на Лепорелло.) Но с ним… я так мечтала о великой любви! (Засмеялась.) А с тобою я ее тотчас вспомнила… Ты украл у меня даже это… За что?! Проклятый старик! Лакей! (Кричит.) Уйди! Уйди! (Бросается к Лепорелло.) Мне спокойно с тобой. Зачем он пришел?
Лепорелло. Все будет хорошо, Аннушка. Ты красивая, с тобою куда хочешь пойти не стыдно. Все будет в ажуре… Только… постараемся без излишних разговоров… ты ведь знаешь, у меня в этом веке — фотография, я не один — дочь-невеста, совещание по багету… (Визгливо.) О, как я тебя люблю! А дальше — пошли мои стихи про любовь! (К Д. Ж.) Вспоминай!.. Мне что, два раза повторять? (Замахнулся.)
Д. Ж. (хрипло). «Как сладко на земь пасть, томиться в рабстве страсти… и все ж, чем страсти власть, нет сладостнее власти». (ИД. Ж. начинает хохотать. Он хохочет страгино, до колик. Постепенно он замолкает, а потом еле слышно произносит.) Командор… Командор… (Громче.) Командора — ко мне! Командор!.. (Вопит.) Командор! Командор!
Все молчат. Тишина.
Лепорелло. Сганарель… а Сганарель…
Д. Ж. (еле слышно). Командор… Командор…
Лепорелло. Сганарель… а Сганарель!.. (Швыряет ему в руки портфель.)
Д. Ж. (задыхается от слез и бессмысленно глядит на портфель). Не помню!.. Я не помню…
Лепорелло. А тысяча шестьсот тридцать второй год? А река Гвадалквивир — этот хрустальный рубеж между Севильей и Трианой!.. Ты тоже не помнишь? А, Сганарель? (Лупит его.)
Д. Ж. (вздрагивая от ударов, бессмысленно). Помню… помню… помню…
Она в отсутствии любви и смерти
На сцене: четыре комнаты, кухня и ванная — это как бы одна огромная малогабаритная квартира. Но это только «как бы», ибо на самом деле все эти помещения принадлежат разным владельцам, все они взяты из разных квартир, в самых разных концах огромного города.
И только первая и вторая комнаты находятся в одной квартире.
Первой комнатой владеет Она: 18 лет, миловидна, не более, одета в серенькие польские джинсы и в голубую байковую кофточку (уличный вариант) или в коротенький серенький балахончик (так она ходит дома). На стене висит еще одна ее любимая вещь — красная поролоновая куртка, оставшаяся со времени ее 14-летия. (Вещи свои она любит, хранит подолгу им верность, высокомерно не замечая, что они старенькие и немодные, ибо с ними у нее всегда что-то связано.) Ее комната — узкий пенал, где помещаются всего три предмета: письменный стол, вечно раскрытая кресло-кровать и магнитофон. Это удобно, потому что можно лежать на кресле-кровати (любимая поза) и доставать до стола, а главное — до магнитофона. Но это и не очень удобно, потому что, задумавшись, она начинает разгуливать по комнате, как по улице: откинутая голова (гордость) и устремленные в небо глаза (сомнамбула), — и оттого она бьется, по очереди, сначала об угол стола (вскрик), потом о кресло-кровать (проклятия!). Это повторяется изо дня в день, но откинутая голова и устремленные в небо глаза остаются.
Окна в ее комнате всегда раскрыты, и комната наполнена немыслимым солнцем (южная сторона) и невообразимым грохотом трассы (дом стоит на шоссе). Она выросла в этом грохоте и совершенно к нему привыкла. Для нее в этом только большое преимущество: она может свободно разговаривать в своей комнате вслух — сама с собой, как с подругой, ибо из-за шума ничего не слышно в той, во второй комнате, которую занимает Ее мать.
Вторая комната — комната ее матери. Проходная, большая и тихая (окна во двор). Здесь все как у всех: трельяж, телефон на полу на длинном шнуре (о который Мать периодически спотыкается), большая тахта (можно залезать с ногами) и зеленое кресло из югославского гарнитура. Ее матери «за тридцать», но Мать — прелестна: она кажется совсем юной в голубеньком несминаемом джинсовом костюмчике.
Третья комната находится на другом конце города и принадлежит Подруге ее матери. Это точно такая же комната, с точно таким же югославским креслом (только желтым). Подруга — сверстница ее матери и одета в точно такой же джинсовый костюм, только Подруге он не идет, потому что подруга маленькая, толстенькая и некрасивая. Естественно, зато подруга очень энергичная и просто ни секунды не может усидеть на месте, все время носится по комнате или убегает в невидимую нам кухню (точно так же спотыкаясь о шнур телефона на полу).
Далее идет кухня совсем в другой квартире. В этой кухне, загроможденной джазовыми инструментами, три юнца, тихонечко импровизируют некую мелодию. Двое — очень высокие, гнутые, с прекрасными длинными волосами. Третий — тоже длинноволос, но маленький — Маленький джазист с подпрыгивающей походкой, нервно сгрызающий свои ногти. Маленький джазист — хозяин на кухне, он руководит двумя высокими.
Рядом с кухней — ванная в Его квартире (а точнее, как положено в малогабаритных квартирах, — совмещенный санузел). Перед зеркалом с электробритвой стоит Он. Ему тоже «за тридцать». Он молча стоит с жужжащей электробритвой, разглядывая свое отражение в зеркале.
И наконец, последняя пустая комната, погруженная в темноту. Вся ее мебель — стол и два стула — почему-то сдвинута в угол и уложена на кровать. Это нагромождение покрыто автомобильным брезентом — и есть что-то ужасное в этой бесформенной куче.