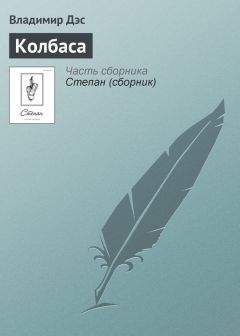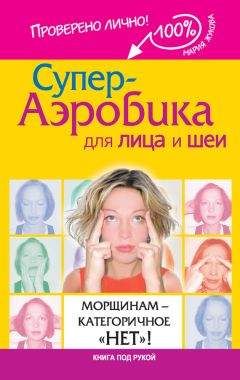Мацей Войтышко - Булгаков
Ольга. Что?
Берков. Не знаю. Устал я. Пойду, пожалуй.
Елена. Берков, изобрази перед уходом Немировича!
Ольга. Люся!
Елена. Оля, пусть он покажет, ну пожалуйста!
Ольга. Ничего святого!
Елена. По специальному пожеланию промерзшей сестры.
Ольга. Люся… Люся…
Берков перевоплощается во Владимира Ивановича Немировича-Данченко, восьмидесятилетнего теоретика МХАТа. Поглаживает себя по несуществующей бородке и произносит сквозь зубы измененным голосом текст.
Берков. «Первая заповедь театра: ничего не играть — не играть образ, не играть ситуацию, ни драматичную, ни комическую, не играть смех, плач — ничего не играть. Актер, который играет, вырабатывает штампы и теряет зерно. Актер, который не играет, зерна не утрачивает».
Елена воспринимает пародию Беркова с радостью, Ольга — с раздражением.
«Чехов спросил меня как-то раз, ухватываю ли я его подтексты и за что. А я ему отвечаю: За зерно, Антон Павлович, за зерно».
Елена аплодирует, Ольга качает головой, стараясь скрыть смех.
А на бис я позволю себе предложить вам блаженной памяти Константина Сергеевича.
Берков пародирует Станиславского.
«Неужели вам не надоела простуда? С насморком нужно быть весьма, весьма осторожным. С ним долго не протянешь»
Громко хрипит, словно умирая.
Елена. Ну, это уже предел всему. Но смешно.
Ольга. Станиславский у тебя лучше получается.
Берков. Все, бегу. (Одевается). Может, вы сумеете мне помочь. У кого в Москве могут быть заграничные пластинки Рахманинова? Говорят, есть американские записи. Третий день ищу. И все напрасно.
Елена. У нас нет. Есть немного классики, но не Рахманинов.
Ольга. Качалов много бывал за границей. Возможно, у него?
Берков. Василий Иванович Качалов? Большое спасибо.
Ольга. А зачем тебе Рахманинов?
Берков. Просто из интереса. Для жены.
Сестры обмениваются взглядами.
Ольга. Вот как? А кстати, как она? Давно ее не видела.
Берков. Она сейчас уехала на гастроли.
Ольга. Она была хороша в «Роз-Мари»[2] (Поет.)
И когда в тот час, а-а-а…
он дойдет до нас, а-а-а…
пусть ваше сердце на мой призыв найдет ответ.
Берков. Спасибо за чай.
Уходит.
Ольга. Твой муж, наверное, совсем спятил.
Елена. А что случилось?
Ольга. Я прихожу, а Берков сидит и, как ни в чем ни бывало, читает рукопись романа. Хотите, чтобы всех нас выслали?
Елена. Они и так всё знают.
Ольга. Что знают? Что они знают? Банки принесла?
Елена. А ты начала печатать?
Ольга. Мне некогда.
Елена. Мне тоже некогда.
Ольга. Ну тогда ты…
Стук в дверь.
Елена. Кто там?
Голос. Свой.
Елена. Какой еще свой?
Голос. А вот такой и свой! Можно даже сказать, что наш. Только немец.
Елена. Попрошу без глупых шуток.
Голос. Но Елена Сергеевна, если я говорю, что немец свой, значит свой.
Елена. Николай!
Открывает дверь. Входит Николай Эрдман. Елена радостно с ним здоровается. Ольга немного смущена.
Приветствую тебя, безумец!
Эрдман. Приветствую, Елена Прекрасная! Как жаль, что я Одиссей, а не Парис. А Мака просто счастливчик.
Елена. Раздевайся, садись.
Эрдман (видя, что она одета). Ты собиралась уйти?
Елена. Мой Сережа у соседей, играет с приятелем. Я хотела его забрать. Но если приехал ты, то он может еще остаться, пусть они разнесут ту квартиру. Вы знакомы с Ольгой?
Эрдман. Абсолютно и нисколько не знакомы. Здравствуйте, Ольга Сергеевна. В последний раз вы меня могли видеть лет пять тому назад, на каком-то неудачном спектакле, в каком-то скверном театре, с весьма дурными актерами, с ужасной режиссурой.
Ольга. Так оно и было.
Эрдман. И прошу вас придерживаться этой версии, если кто-нибудь вас спросит. Когда-то где-то вы Эрдмана видели. А в данный момент я невидим, не существую, если можно так выразиться, на собственный страх и риск. То есть — меня нет. А человек, которого нет на свой страх и риск — это вообще мистика.
Ольга. Вы приехали нелегально?
Эрдман. Ради бога, что значит — легально или нелегально?! Просто представим, что мое содержимое находится здесь, а форма — где-то в другом месте. И если мое содержимое не воссоединится с моей формой, это будет означать, что меня здесь как бы вообще не было.
Ольга. Вам же запрещено находиться в Москве.
Эрдман. Запрещено. Но быть здесь проездом — не означает находиться. Я здесь проездом из Вологды в Керчь-с.
Ольга. Или из Керчи в Вологду.
Эрдман. «Лес» (Иронически). Вы знаете Островского? Тогда вот другая литературная загадка. Иду я сегодня с вокзала и рассуждаю: «если бы вокзал был близко, то не был бы далеко, а если он далеко, то, значит, не близко»
Ольга. А вы знаете, какая после этого идет ремарка? «Неловкое молчание».
Эрдман. Нокаут. Этого я не помнил. Неловко умолкаю.
Ольга. Я недавно «Трех сестер» перепечатывала. С рукописи Чехова.
Елена (к Эрдману). Ты не поешь? Есть щи и картошка. А, впрочем, человек с дороги, а я еще спрашиваю.
Эрдман. С удовольствием, спасибо. А где Миша?
Елена. Спит. Сейчас разбужу.
Эрдман. Не нужно. Пусть отдыхает.
Елена. Ты прав. Так ему спокойнее. А у нас время есть.
Елена выходит на балкон за едой.
Ольга. Зачем ты приехал?
Эрдман. Хотел его повидать.
Ольга. В провинции говорят, что он уже долго не протянет?
Эрдман. В провинции его уже похоронили. Жаль только, самого больного не спросили.
Возвращается Елена с кастрюлей в руках.
Елена. Сожрал! Сбросил крышку и сожрал.
Эрдман. Кто?
Елена. Кот. Или человек. И что только в этом доме происходит?
Эрдман. После кота я не брезгую. А после человека — зависит какого.
Елена выходит на кухню.
Ну как Миша?
Ольга. Теряет зрение. Это у него наследственное.
Пауза.
Эрдман. Что ж, значит, появился новый Гомер. К тому же мы будем твердо знать, что он действительно существует.
Ольга. До бесконечности мучает Елену и меня поправками. Все время диктует, а мы вновь и вновь перепечатываем этот его роман. А пьесу о молодости Сталина театр ставить не намерен.
Эрдман. Известно, почему?
Ольга. Нет.
Эрдман. Плохая пьеса?
Ольга. Мне трудно судить. Молодой революционер беседует со старым богословом.
Эрдман. Наверное, в этом все дело.
Ольга. В чем?
Эрдман. Старый богослов не желает никому напоминать, что был молод, потому что теперь он уже стар.
Ольга. Об этом я как-то не подумала. Ты быстро соображаешь.
Эрдман. На Лубянке, знаешь ли, весьма развиваются способности к аналитическому мышлению.
Ольга. До сих пор? Чего им, собственно, от тебя нужно?
Эрдман. А ты не знаешь?
Ольга. Что-то рассказывали. Качалов плакал в театре. Будто на какой-то попойке декламировал твои стишки или басенки.
Эрдман. Не на какой-то, а в присутствии высших государственных деятелей.
Ольга. Ну и что такого?
Эрдман. А им не понравилось. Было недостаточно смешно. Качалов прочитал одно веселое стихотворение, а тут вдруг — тишина. Все смущенно молчат. А потом генеральный секретарь спрашивает: «Кто же автор этих хулиганских стихов?»
Ольга. Проклятье! Из-за такой ерунды тебя таскают уже семь лет?
Эрдман. Видишь ли, хуже всего то, что народ приписал мне несколько десятков новых произведений, и теперь я все время вынужден объяснять, где заканчивается народное творчество и начинается мое. Так всегда бывает, когда создаешь новый литературный жанр.