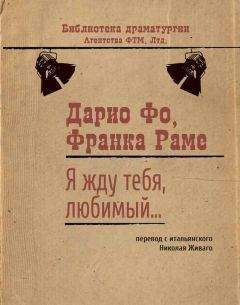Август Стриндберг - Полное собрание сочинений. Том 3. Повести и драмы
И к тому же полицейский попросил запретить детям сидеть на памятниках, так как это тоже запрещено.
— Лучше всего — пойдемте домой, — сказал с возмущением несчастный муж, — как много заботятся о мертвых и как мало о живых!
И они пошли домой.
Муж сел за работу. Ему нужно было переписать рукопись академической лекции, в которой трактовалось о переросте населения.
Он не мог не заинтересоваться содержанием и стал перелистывать тетрадь. Молодой автор, принадлежащий к этической школе, восставал против порока. И что же такое этот порок? То, благодаря чему мы все появились на свет Божий, то самое пожелание, которое возвещает пастор новобрачным, говоря: плодитесь и размножайтесь! А молодой автор писал: «кроме супружеских, все сношения полов являются неизгладимым пороком, а в браке — первый долг дать волю своему расположению и т. д.» И все эти слова он должен был написать своею собственной рукой! Такая масса морали и ни одного слова разъяснения! В конце молодой философ доказывал, что громадные поля пшеницы показывают, что никакого перероста населения нет и что теория Мальтуса не только не верна, но и безнравственна, как с точки зрения буржуазной морали, так и с общечеловеческой.
И несчастный отец семейства, который уж столько лет не пробовал хорошего хлеба, встал, чтобы идти хлебать грубую кашу со снятым молоком, наполнить свой желудок, но отнюдь не насытиться.
Ему было очень горько, но не то, что приходилось плохо питаться, составляло главную беду, а то, что волшебная фея веселого настроения духа уже совсем отучилась навещать его. Дети ему казались только обузой, а любимая женщина — самым злым врагом, презренным и презирающим!
А источник этой печали? Недостаток хлеба. О, этот мир противоречий! И наука, занявшая место религии, не давала никакого ответа на все сомнения, она констатирует лишь факты и спокойно предоставляет умирать с голоду и детей и родителей!
Кукольный дом
Они были уже шесть лет женаты, но жили так же счастливо, как в медовый месяц. Он был флотский капитан и каждое лето должен был уезжать из дома на многие месяцы. Два раза уж делал он кругосветное путешествие. Эти небольшие путешествия были настоящим благословением. Если к концу зимы появлялись в отношениях супругов некоторые шероховатости, то летнее путешествие освежало до основания их совместную жизнь.
В первое лето он ей писал настоящие любовные письма, не пропускал ни одной стоянки, не опустив письма, и когда, наконец, увидел шведский берег, то не мог на него до сыта наглядеться. В Ландсорте он получил от неё телеграмму, что она его встретит в Даларо, и когда его корвет у Ютхольпа стал на якорь, и он увидел маленький голубой носовой платок, которым махали с веранды почтамта, то уже знал, что это предназначалось ему. Но у него еще было так много дела на пароходе, и до самого вечера ему не удалось сойти на землю. Когда он подъезжал в шлюпке и увидал ее, стоящей на пристани, молодую, свежую и прекрасную, то у него было такое чувство, как будто он переживает снова день своей свадьбы. И какой приятный маленький ужин сумела она устроить в двух небольших комнатках гостиницы! Как много было у них рассказать друг другу о путешествии, о маленьком, о будущем. Вино сверкало в бокалах, звучали поцелуи; снаружи слышались звуки вечерней зари, но это его не касалось, он мог остаться еще на один час.
— Как, он все-таки должен был уйти?
Да, собственно, он и совсем не должен бы был покидать корабля, но если он к утренней заре уже вернется, то это сойдет.
— А когда бывает утренняя заря?
— В пять часов.
— Так рано!
Но где она будет спать эту ночь?
Этого он не должен был знать.
Но он непременно хотел видеть её спальню; она стала перед дверью и не пускала его, но он поцеловал ее, взял на руки, как ребенка, и отворил дверь. Однако, какая громадная постель! Точно большой баркас! Где это она достала? О Господи, как она покраснела! Но из его письма она поняла, что они здесь будут ночевать!
Да, конечно, оба этого хотели, и если даже он утром опоздает к заре, то и это ничему не повредит; нет, но как он теперь говорит!
И теперь им захотелось кофе и огня в камине, так как простыни на постели были несколько влажны и жестки. Нет, но такая понятливая маленькая шельма, позаботилась о большой постели! Но как она ее достала? Но она вовсе ее не «доставала!»
Нет, конечно, нет, этому он охотно верит!
Но, он был глуп!
Как, он глуп? И он схватил ее за талию. Нет, он должен быть благоразумным! Благоразумным, это легко сказать!
Вошла горничная с дровами. Когда часы пробили два и восток посветлел, они сидели оба на открытом окне. Казалось, будто она его возлюбленная, а он её любовник. И разве это было не так? Ах, он должен был уходить! Но в десять часов, к завтраку, он хотел быть снова здесь, а потом они уйдут на парусах.
Он сварил кофе, которое они пили при восходе солнца, слушая крик чаек. Затем, поцеловал ее в последний раз, опоясался саблей и ушел. И когда он стоял внизу на пристани и кричал: «Лодку!» — она спряталась за гардины, как бы стыдясь. Но он посылал ей рукой воздушные поцелуи один за другим даже тогда, когда подъехали матросы с лодкой. И потом еще последнее: «Желаю тебе спать хорошенько и увидеть меня во сне», когда он уже отъехал на некоторое расстояние и обернулся к ней с биноклем перед глазами и увидел в окне небольшую фигурку с черными волосами; солнце освещало её белую одежду и голые плечи, и она казалась русалкой.
Потом послышались звуки утренней зари. Тягучие звуки сигнальных рожков лились по зеленому острову, по зеркальной поверхности воды и отдавались эхом от елового леса. Потом, когда все были уже на палубе — «Отче наш», «Господи благослови». Небольшой колокол Даларо отвечал тихим звоном. Было воскресенье. И в утреннем бризе показались различные суда, развевались флаги, свистели свистки, на пристани мелькали светлые летние платья, пришел пассажирский пароход, рыбаки вытащили свои сети, а над синей водой и зеленой землей ярко блестело золотое солнце.
В десять часов капитан приехал опять на шестивесельной лодке, и супруги опять были месте. Когда они завтракали в большой зале, другие гости шептали: «Это его жена?» Он говорил вполголоса, как влюбленный, а она опускала глаза вниз и смеялась или била его салфеткой по пальцам.
Лодка стояла у пристани уже готовая к отплытию, она села на руль, он управлял парусами Но он не мог отвести взора от её фигуры; одетая в светлое летнее платье, с крепкой высокой грудью, с серьезным и милым лицом, с твердым взглядом, крепко держалась она за ванту маленькой рукой в перчатке из оленьей кожи. Его бесконечно забавляло, когда она ему сделала выговор, точно юнге.
— Почему, собственно, ты не привезла маленького?
— Как могла я знать, где придется мне его поместить?
— Конечно в огромном баркасе.
Она смеялась, и её манера смеяться несказанно ему нравилась.
— Да, а что сказала хозяйка сегодня утром? — спросил он дальше.
— А что она должна была сказать?
— Спрашивала она, хорошо ли ты спала?
— А почему я должна была плохо спать?
— Почем я знаю, может быть скреблись крысы, или скрипела оконная рама, да мало ли что может потревожить сон такой старой девы!
— Если ты сейчас же не станешь сидеть смирно, то я натяну паруса и ты у меня нырнешь в воду.
Они высадились на маленьком острове и позавтракали привезенной в корзиночке провизией, потом охотились с револьвером за козой, ловили рыбу, но т.-к. ничего не попадалось, то поплыли дальше. В фиорде, где белые гагары летели на юг, где взад и вперед скользили щуки — он без устали смотрел на нее, говорил с ней, целовал ее.
Так встречались они подряд шесть лет в Даваро и всегда были одинаково юны, одинаково влюблены и счастливы.
Зимою же сидели они в своей маленькой квартире в Скепхольме. Там делал он пароходики для мальчика или рассказывал ему свои приключения в Китае, и жена сидела тут же и забавлялась этими дикими историями. И комната, в которой они сидели, была самая лучшая, какая только бывает, не такая, как всякая другая. Там висели японские зонтики и оружие, ост-индские миниатюрные пагоды, австралийское оружие, луки и копья, негрские барабаны, засушенные летучие рыбы, сахарный тростник и трубки для курения опиума. И папе, который уже начинал плешиветь, совсем уже переставало нравиться там, снаружи. Он играл партию в шахматы или в карты с аудитором, — при этом всегда бывал грог. Сначала и жена принимала участие в игре, но с тех пор, как у них стало четверо детей, у неё на это уже не оставалось времени, она только присаживалась около мужа и заглядывала к нему в карты, а он каждый раз, как она приходила, брал ее за талию и спрашивал совета.
Корвет должен был выйти в море и остаться там шесть месяцев. Капитану это было очень не по душе, дети уже становились большими, жене одной было трудно с ними справляться, и сам капитан был уже не так юн и жизнерадостен. Но так должно было быть, и он уехал.