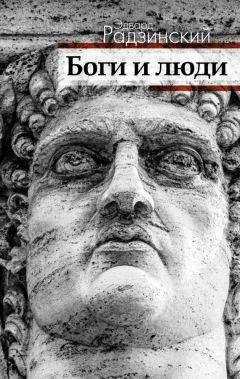Эдвард Радзинский - О себе (сборник)
И опять из небытия появляется та комната… и торчащие из дверей руки с револьверами, и беспорядочная пальба обезумевших расстрельщиков, и великие княжны на коленях у стены — защищаются руками от пуль… И пули странно отскакивают от них и, пугая убийц, летают по комнате… Мечется с нечеловеческим криком несчастная служанка, защищаясь подушкой от пуль, и он, Юровский, вступает в дым, чтобы пристрелить беспомощного, но странно живучего наследника… И фуражка государя, откатившаяся к стене… и сам царь, упавший навзничь…
И та длинная, таинственная трехдневная возня с перезахоронением трупов Романовых, скрывшая, как оказалось, последнюю загадку ипатьевской ночи.
Триллер
В спектакле вновь играл суперзвездный состав — Михаил Ульянов, Евгений Миронов, Александр Збруев и Ирина Купченко.
В это время состоялось торжественное перезахоронение останков царской семьи в Петропавловской крепости. Я был членом Комиссии по перезахоронению и участвовал в церемонии.
В Петербург со всего мира съехались потомки Романовых… И возник телевизионный проект — ночью, после торжественного перезахоронения показать «Последнюю ночь последнего царя» в Эрмитажном театре. Причем прологом представления я хотел сделать отрывок из пьесы великого князя Константина Константиновича «Царь Иудейский», которую когда-то смотрели в Эрмитажном театре Николай II и его семья.
И актеры, игравшие царскую семью, должны были сидеть в прологе среди зрителей. Зрителями должны были стать и приехавшие на погребение родственники царской семьи. После пролога Романовы должны были увидеть воскресшую из небытия правду о расстреле царской семьи. Правду, о которой главный цареубийца Юровский сказал: «То, что случилось в ту ночь, не узнает никто».
Трансляцию этого зрелища на всю страну должен был вести один из главных каналов. Причем в режиме реального времени, в котором происходил расстрел.
Но чем вероятней становилось осуществление проекта, тем больше меня охватывало сомнение. И когда проект начал тонуть, я вздохнул с облегчением. Уж очень страшной, бесчеловечной стала казаться мне эта затея.
Разговоры по пути на гильотину
И еще одну историческую пьесу, «Палач», я написал совсем недавно.
Это — пьеса в пьесе…
Все тот же год террора. Квартира режиссера М. (Всеволода Мейерхольда). Он обречен, уже не звонит телефон… И, ожидая неминуемого, чтобы не сойти с ума, он придумывает спектакль. Спектакль в театре его мечты — в театре будущего, где не будет рампы, где взбесившаяся сцена сможет умчаться на улицу сквозь зрительный зал, как… Как телега палача, мчавшая когда-то на эшафот жертвы Французской революции!
Так он начинает придумывать пьесу, так появляется ее герой — палач Сансон.
XVIII век, Франция. Эротика века, небывалая роскошь века… Древний род палачей Сансонов, презираемых всеми. И тайная жизнь, и любовные похождения Палача, вынужденного скрывать даже перед возлюбленными свое ремесло.
Но грянула революция.
И, помешанная на равенстве, Революция провозглашает равенство даже на эшафоте. Раньше простолюдинов вешали, дворянам рубили головы. Теперь головы должны рубить — всем. И Сансон, палач города Парижа, понимает, что ему — крышка: стольких будущих клиентов он обслужить не сможет. Но на помощь приходит технический прогресс. Настройщик музыкальных инструментов, единственный человек, который знается с палачом, придумывает для него невиданное сооружение — гильотину. Лезвие, висящее между двумя досками… Теперь весь труд палача — лишь только дернуть за веревку. Прогресс победил: палачом может стать любой.
«Гильотина — самое гуманное из изобретений. Лежащий лицом вниз осужденный как бы отдыхает…
И, к тому же, это поза любви… И сама смерть мгновенна… Падающее лезвие… оно — как дуновение ветерка. Оно вам отрубит голову и вы даже не почувствуете», — докладывают в Конвенте. Весело хохочут члены Конвента. Чтобы в дни террора ощутить на себе дуновение этого ветерка.
И вот уже часы революции торопятся к невиданной крови. День равен веку. Рушатся авторитеты возраста, таланта, происхождения. На вершины возносятся все новые исполины, которые при падении оказываются карликами. И топор, висящий между двух досок, становится повелителем страны. И свершилось: презренный вчера палач становится самым уважаемым человеком. Ибо, уничтожив монархию, революция основала новое царство — Царство палача… Его телега постепенно объединяет всех — от короля до Робеспьера. Этакая великая братская могила на колесах. Всех отвозит на гильотину палач Сансон, слушая по дороге разговоры приговоренных. Разговоры аристократов, разговоры проституток, разговоры великих революционеров-отцов революции…
Отдам ли я эту пьесу в театр? Соглашусь ли опять увидеть чужую пьесу, которую создадут они втроем — актеры, режиссер и зритель?
Или…
Или поставлю ее сам в своем театре.
Мой театр
Уйдя из театра, сам того не понимая, я в нем остался.
И дело даже не в том, что я не смог не писать пьесы. Оказалось, все это время я создавал свой театр.
И это совсем другой театр, где нет привычного диктата режиссера, где нет актеров.
Нет ни их Величеств, ни их Высочеств…
Есть только он — режиссер, драматург, актер в одном лице. Странный человек-оркестр.
Мой театр — театр на ТВ. Театр Истории.
В начале 90-х я впервые выступил на ТВ.
— Вы понимаете, что вы отважились читать лекцию перед миллионами, — спросил меня после первой передачи известный историк.
Он не понимал — миллионы лекции не слушают.
На самом деле это была не лекция — это был все тот же театр.
Театр мучительный. Ибо, не дай вам Бог, в этом театре приготовить текст, выучить его наизусть. Тогда все, действительно, превратится в лекцию. А это — смерть эмоции.
Настоящее ТВ — это эмоция. Это — сейчас. Этот театр рождается на глазах зрителя. Он — импровизация. Он вечное для меня «воображение реальнее реальности».
На глазах невидимых сотен и сотен тысяч я обязан за сорок минут сочинить пьесу — с завязкой, кульминацией и концовкой. При этом должен идти как бы — впереди себя, слушать себя, редактировать себя и помнить, что у меня в распоряжении сорок минут. И я обязан за это время попытаться выполнить главную задачу. Наедине со всеми понять ЕГО Чертеж в судьбе персонажа, о котором рассказываю.
И если это удалось, спектакль состоялся.
Мои издатели на Западе, когда узнают, что я выступаю на ТВ, спрашивают:
— Это ток-шоу?
— Да.
— А кто туда приглашается?
Разные люди — Сталин, Иван Грозный, Казанова, Екатерина Великая, Наполеон, царская семья, Распутин. По моему желанию. Те, кто жили и погибали в молниях истории. Те, кто для меня не умерли до сих пор. Но просто притаились в природе.
Шум времени
Недалеко от Лобного места стоит он… Я вижу его хищный нос — наследство Палеологов.
Бояре, духовенство, народ. Ждут, что он скажет. Как всегда перед важным поступком, он раззадорил себя. И вот оно наступает — желанное бешенство. И, вспоминая утеснения детства, обратился к митрополиту и народу…
«Ты знаешь, владыко… сильные бояре расхищали мою казну, а я был глух и нем по причине моей молодости… Лихоимцы и хищники, судьи неправедные, какой дадите вы ответ за те слезы и кровь, которые пролились благодаря вашим деяниям?… Я чист от крови… Но вы ждите заслуженного воздаяния».
И горят бешеные глаза, и затаился народ на площади, и бояре ожидают великой расправы. Но он объявил: «Мстить вам не буду, за все ответите на Страшном суде… а сейчас…»
И голос сорвался.
Он повелел всем забыть все обиды и соединиться — в любви и прощении. Он объявил себя защитником людей от неправедности сильных мира сего…
И в глазах его были растроганные слезы, когда он обратился к священству: «Достойные святители церкви, от вас, учителя царей и вельмож, я требую — не щадите меня в преступлениях моих. Гремите словом Божьим, и да жива будет душа моя!»
И чувствуешь ветер. Как он треплет его длинные, рано поредевшие волосы…
… А вот другой ветер.
По талому грязноватому снегу летит царский экипаж. Снег — на булыжной мостовой вдоль канала. Народу совсем мало: мартовский петербургский холодный ветер, пробирающий до костей, сдул с канала гуляющую публику. По тротуару прогуливаются полицейские — охраняют проезд императорской кареты.
А вот из-за поворота показалась и карета.
Но полицейские почему-то не замечают странного молодого человека… Он явно нервничает, в руке у него что-то подозрительное, величиной с тогдашнюю коробку конфет «Ландрин», завернутое в белый платок.
Молодой человек подождал приближающуюся карету и швырнул сверток под ноги лошадям.