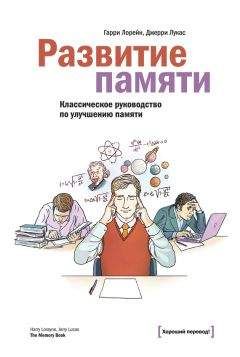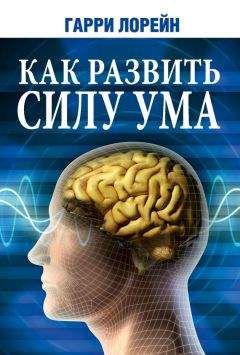Лорейн Хэнсберри - Плакат в окне Сиднея Брустайна
Айрис (ни нее, в отличие от Сиднея, красноречие сестры не произвело никакого впечатления. Толкая мужа в бок). А ведь это камешек в твой огород!
Дэвид (равнодушно). Надо будет разобраться, почему при некоторых обстоятельствах у большинства людей возникает такая угнетающая защитная реакция.
Элтон (слова Мэвис задели его больше всех). Прекрати!
Дэвид (поворачиваясь к Элтону). Теперь меня начнет совестить заступник угнетенных.
Элтон. Заткнись же, надоело!
Дэвид (сердито). А ведь хорошо, что у одних есть Элтоны, а у других дэвиды. И скажи спасибо дэвидам всего мира, Элтон: мы избавляем людей от крестных мук, которые ты так благородно и (горько) так благоразумно принял на себя.
Элтон вскакивает и идет к двери.
Айрис. Ты куда?
Элтон. Прости, если покажусь тебе чересчур щепетильным, по длительное общение с ненормальными действует мне на нервы.
Элтон выходит, с шумом захлопнув за собой дверь. Дэвид медленно кладет вилку и сидит неподвижно. Айрис, увидев, что Дэвид перестал есть, наклоняется к нему и ласково дотрагивается до его руки.
Айрис. Ешь, Дэвид. Ведь Элтон как ребенок, ты же знаешь.
Дэвид (медленно поворачивает голову и смотрит на Айрис в упор. Потом произносит с невинным видом, готовя ловушку). Ты ведь не против таких, как я, Айрис?..
Айрис (безразлично пожимает плечами). Конечно нет.
Дэвид. Ну конечно, ты вообще не бываешь против кого-нибудь. Но меня не устраивает «вообще». Надеюсь, он не станет анализировать причины своей нервозности.
Сидней (взвиваясь). Дэвид, может, сегодня обойдемся без твоих разглагольствований? Неужели ты ни на что другое не способен? Неужели ты в самом деле считаешь, что если человек нападает на другого, то это — от одиночества? Бред собачий!
Айрис (жалобно). Ты бы хоть сам помолчал, Сидней!
Сидней (решительно поднимает руку: «Хватит!»). Нет, не хочу! Надоело! Я слишком хорошо знаю признаки надвигающихся словоизлияний.
Айрис. Да не все ли равно?
Сидней (кричит). Не все ли равно? Это все, что ты можешь сказать? Значит, пусть свалится эта проклятая бомба, если кто-то захочет ее швырнуть, — тебе все равно? Значит, спешите вкусить от радостей земных, римляне, ловите последние горячечные деньки — тебе все равно? А мне не все равно, и мне не стыдно в этом признаться. Нужно слишком много сил, чтобы оставаться безразличным. Вчера я насчитал у себя двадцать шесть седых волос — и все потому, что старался быть безразличным. Дэвид, ты вот сочинил четырнадцать пьес о безразличии, об одиночестве, об отчужденности, о невозможности любить и понимать друг друга. А ведь ты хотел сказать о губительном воздействии общества, которое не хочет, видите ли, санкционировать твои особые сексуальные наклонности.
Дэвид. От тебя, кажется, благополучно ускользнул тот факт, что оскорбили меня, а пе тебя.
Сидней. Если кто-то оскорбил тебя, двинь ему в морду. Если тебе не нравится брачный кодекс, выступай против — я тоже думаю, что он нелеп. Хочешь опубликовать заявление на этот счет, пожалуйста, я готов подписать. По мне, живи хоть с золотой рыбкой. Но ради бога, выкинь из головы, будто твои особые наклонности доступны пониманию только скорбных, возвышенных, измученных натур. (Втыкая вилку в салат.) А земля, на мой взгляд… (вращая вилку) все равно вертится.
Дэвид долго не сводит глаз с Сиднея. Затем идет к двери.
Айрис (спешит за ним). Дэвид, садись, ешь. Не понимаю, что сегодня со всеми творится.
Дэвид. Прости, я еще не привык к обязательным социологическим блюдам, которыми в таком количестве (кивает на плакат в окне) начинают потчевать в этом доме. Я поем у себя. (Быстро уходит.)
Айрис (закрывая за ним дверь). Ну вот, угостили друзей, спасибо. Что на тебя нашло в последнее время, Сидней? Чего ты придираешься? Какое ты имеешь право воспитывать всех и вся? Оставь людей в покое.
Сидней (в ярости). Никого я не воспитываю. По тебе этого во всяком случае никак пе скажешь.
Айрис (уязвленная). Что ж, тебе скоро придется выбирать между Маргарет Мид и Барбарой Аллен. И той и другой я быть пе могу. Да и мне, видно, придется кое-что решать, ничего не поделаешь. (Шепотом, самой себе.) Что-то надо решать.
Сидней. Малейший предлог — и вытаскивается на свет заигранный психологический этюд на тему «Какая я несчастная».
Айрис (сквозь зубы). Почему ты думаешь, что все будут без конца терпеть твои оскорбления?
Сидней. Мир сам напрашивается на оскорбления!
Айрис (терпение ее лопнуло). Дошел до ручки! (Начинает убирать со стола.)
Сидней (видя, что Айрис раздражена до крайности). Прости, пожалуйста. (Хочет помочь, но Айрис отстраняет его. Пауза.) Сегодня собрание. Пойдешь?
Айрис. И не подумаю связываться, я ж тебе сказала.
Сидней. Хорошо, хорошо! Тогда пойдем к «Черному рыцарю», посидим, выпьем пива.
Айрис. Нет, я не хочу идти к «Черному рыцарю» и не хочу пива.
Сидней. Так, может быть, ты сама предложишь что-нибудь, может, скажешь, чего ты хочешь. Это будет твоим первым достижением за всю нашу совместную жизнь.
Айрис. Тебе, как видно, очень приятно изощряться в колкостях. Иди на свое сборище и оставь бедняжку жену в покое. (Поворачивается к радиоле.)
Сидней (хватает пиджак, идет к двери, берется за ручку, останавливается, швыряет с досады пиджак на пол. Скорее себе, чем жене). «Оставь бедняжку жену в покое» и смотри, как охотно она опускается до растительного существования.
Айрис присела на подоконник; не поворачиваясь, смотрит на улицу. Тишина. Затем из радиолы слышатся хватающие за душу звуки гитары.
Айрис (печально, еле сдерживая слезы). Даже наши ссоры, Сид, стали другими. Что-то ушло или, наоборот, появилось — не знаю. Но у меня уже не возникает через час желания мириться с тобой. Это плохо, правда?
Сидней. Да, плохо.
Он поворачивается, смотрит на жену — она плачет, — потом поднимает пиджак и выходит.
Айрис (сквозь слезы, вслед). Так давай же драться за то, чтобы было хорошо, понимаешь! Драться, как черти!
Сидней останавливается на лестнице и, вцепившись в перила, глядит на дверь, за которой его жена, застыв, смотрит ему вслед; в этот момент сцена темнеет, освещены лишь они двое, и голос Джоан Баэз, поющий «Через все испытания…», заполняет театр
Занавес
Действие второе
На следующий день. Перед рассветом.
Слабый свет забрезжившего рассвета освещает площадку наружной лестницы над дверью в квартиру Брустайнов. На этой площадке Сидней; он лежит на спине, заложив руку за голову, одна нога согнута, другая перекинута через нее. В этот час Нью-Йорк — особый мир, известный лишь немногим из его обитателей; тишину огромного спящего города только подчеркивают знакомые звуки: изредка взвоет сирена, сигналящая в тумане на Гудзоне, и время от времени прошелестят по асфальту шины или прогрохочет молочная цистерна. В квартире темно.
Сидней садится, берет банджо и, свесив ноги над внутренним двориком, начинает тихонько играть. Кажется, будто мелодия эта — печальный, трепетный горный блюз — выхвачена из того мира, который его так манит.
Свет становится призрачным, нереальным; перед зрителями как бы возникает горная вершина его мечты. Не слышно даже далекой сирены — город отодвинулся куда-то неимоверно далеко. Еще несколько тактов — и музыка как бы взмывает в воздух, темп ускоряется: это уже бойкий лихой деревенский танец; появляется Айрис — им воображаемая, босая, с распущенными волосами, в холщовом платье. Она поднимается по ступенькам. Она обнимает его, и вот, словно в ней пробудился древний инстинкт горцев, она уже захвачена этими ритмами и начинает танцевать в тени перед ним. Этот танец — монтаж из движений и элементов американских народных танцев: «Нырянье за устрицей», «Большой круг» и т. д. Банджо Сиднея ведет Айрис за собой, пока воодушевление обоих не иссякает; горная нимфа убегает, поцеловав его на прощание. Сидней сидит в усталой позе, задумчиво перебирая струны. В квартире зажигается свет; из спальни выходит его жена; она завязывает на ходу пояс халата, зевает, трет глаза.