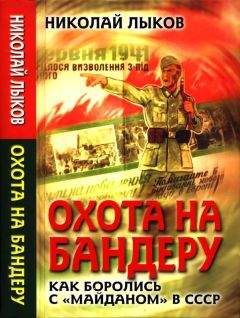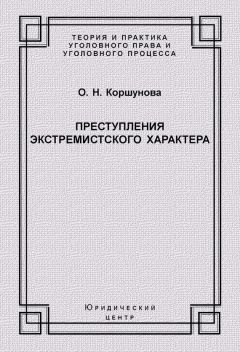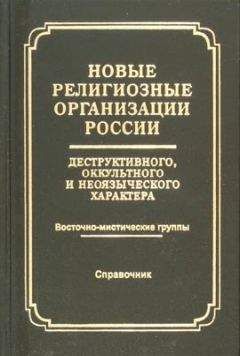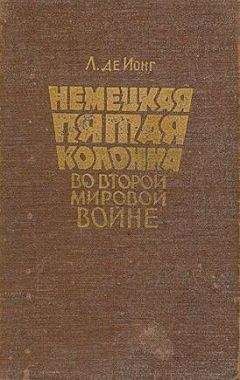Максим Оськин - Крах конного блицкрига. Кавалерия в Первой мировой войне
То есть до войны кавалеристы практически не учились действовать вместе с пехотой, раз в качестве войсковой кавалерии должны были выступать казаки 2-й и 3-й очереди. Иными словами, проводимая перед войной реорганизация сухопутных сил не затронула кавалерию. И не последняя причина здесь — личная вражда между генерал-инспектором кавалерии великим князем Николаем Николаевичем и военным министром ген. В.А. Сухомлиновым, которому протежировал император Николай И. А ведь все кавалерийские теоретики говорили, что упразднение кавалерийских корпусов — неверное деяние. Так, профессор А.Ф. Матковский писал, что для европейской войны обязательно нужны кавалерийские корпуса, причем они должны быть созданы уже в мирное время[30].
Вероятно, еще и поэтому конница воспитывалась сама по себе, не получая навыков действий в современном общевойсковом бою. Ведь даже и в артиллерийском отношении конница взаимодействовала не столько с артиллерийскими бригадами армейских корпусов, сколько со своими собственными конными батареями. Число же последних было весьма невелико: перед войной их насчитывалось двадцать три единицы в пятнадцати" кавалерийских дивизиях. Во время войны было сформировано еще четыре конные батареи, что ясно показывает на приоритет обычной артиллерии. Все тот же В. Рогвольд пишет: немецкая кавалерия уклонялась от конного боя за собственной пехотой. «Между тем подготовка в мирное время русской кавалерии велась исключительно (выделено нами. — Авт.) в направлении подготовки ее к бою с конницей противника. Отсюда каждый большой маневр начинался непременно с действий конных сил обоих противников, по окончании которых никто больше кавалерией не интересовался. Конница приучалась действовать сама по себе, вне зависимости от интересов всей армии, да и пехота приучалась к тому же, мало интересуясь тем, что и как делает кавалерия; последняя сплошь и рядом появлялась у своей пехоты только к заключительному аккорду маневра — общему бою — и производила более или менее эффектную атаку, больше Для зрителей маневра. Примерно по этой схеме представляли себе настоящую военную операцию как командование, так и кавалерийские начальники».
Мирное обучение выражалось:
«а) в исключительном внимании к конному бою и к маневрированию в конном строю на небольших пространствах;
б) в привычке действовать, маневрировать и принимать решения, только видя неприятеля;
в) в недооценке комбинированного боя, неумении его вести;
г) в неумении управлять боем на больших пространствах, когда зрительная связь между частями терялась…
з) в непривычке действовать широко расчлененным боевым порядком, без точных сведений о расположении неприятеля, и, как следствие, непривычка рисковать, ставить определенные задачи подчиненным начальникам, настойчиво преследовать поставленные цели, продолжительное время бесконечной разведки, отсутствие инициативы у частных начальников, когда они попадали в необычную обстановку»[31].
Такое положение вещей в подготовке кавалерии делало невозможным использование больших конных масс в той системе управления, что сложилась перед войной. Косвенно об этом свидетельствует расформирование кавалерийских корпусов после русско-японской войны (а затем вторично — в 1910 году), где русская сторона также не сумела использовать превосходство в коннице над японцами. Ведь русские военачальники так и не смогли приспособить тактику кавалерийского боя к требованиям современной войны. В итоге кавалерийские корпуса стали спонтанно создаваться уже после начала Первой мировой войны, а в 1916 году конные корпуса уже приняли устоявшуюся структуру — от двух до четырех кавалерийских дивизий. До этого широко использовались сводные отряды, в которых начальники кавалерийских бригад и дивизий старались сохранить как можно больше самостоятельности, хотя и были обязаны подчиняться штабам кавалерийских корпусов, создаваемых на время той или иной операции командованиями фронтов или Ставкой. Отсюда во многом проистекала нерешительность применения конницы в Варшавско-Ивангородской и Виленско-Свенцянской операциях 1914 — 1915 гг., в которых широкомасштабные действия кавалерии были призваны сыграть важную роль.
Таким образом, единственное, что умела делать русская кавалерия, это драться против кавалерии противника в открытом сражении, то есть то, что совершенно не могло пригодиться в современной войне. Конница должна была принимать то участие в операции, что способствовало бы общей победе, однако приоритет тактики в обучении над оператикой достиг чрезмерно непреодолимых масштабов. Удивительно, но с этим русские столкнулись уже в войне с Японией, где также не было крупных конных боев, так как японцы имели на театре войны всего лишь две кавалерийские бригады против многочисленной русской конницы. Никаких серьезных выводов по итогам русско-японской войны сделано не было: «…в основу всех действий конницы было положено ее участие в сражении, а оперативная работа на театре войны хотя и не умалялась, но не превалировала над тактикой. В выполнении же чисто боевых задач, встававших перед конницей, последняя стремилась разрешать их преимущественно ударом в конном строю, видя в этом наиболее полное использование своей сильной стороны. Действия с винтовкой в руках были побочным способом достижения поставленной цели»[32]. Одним словом, многочисленный и весьма квалифицированный род войск — кавалерия — был совершенно не подготовлен к современной войне.
Так что вовсе не странно, что в сентябрьских боях на левом берегу Вислы кавалеристы лучше оборонялись, чем наступали. Что конница старалась оставаться в стороне от общевойскового боя, переваливая тяжесть ведения боев на пехоту и артиллерию, в том числе и тогда, когда следовало атаковать во что бы то ни стало (брезинский прорыв немцев). Что еще и в 1916 году конница наблюдала, как победоносная пехота Юго-Западного фронта гонит врага, но участвовать в преследовании не могла, так как не умела. Вообще преследование разбитого противника стало одним из наиболее слабых мест действия русской кавалерии в Первой мировой войне.
Кавалерийские начальники оказались самыми рьяными ретроградами: пехотинцы и артиллеристы (не говоря уже об инженерных войсках, переживших настоящее второе рождение) учились, пусть и на собственных ошибках. Кавалеристы учиться не желали (вспомним в связи с этим, что и в Советском Союзе перед Второй мировой войной самым консервативным родом войск стала кавалерия, а «кавалеристами» именовали наиболее ретроградную группу советского военного руководства, группировавшегося вокруг К.Е. Ворошилова и С.М. Буденного), а широкое применение конницы в Гражданской войне зависело от «нерегулярности» военных действий: даже против только что обретшей независимость Польши этот номер уже не прошел; на каждом театре — своя специфическая тактика.
Стремясь выделить несомненные положительные моменты, А.А. Керсновский пишет, что русской конницей «было произведено до 400 атак в конном строю…», в ряде сражений «некоторые конные дела имели не только тактическое, но и стратегическое значение», наконец, «сколько раз наши пехотные дивизии и корпуса выручались беззаветными атаками ничего не боявшихся и все сметавших сотен и эскадронов»[33]. Все это так. Однако надо сказать о том, что кавалерия проявила себя в войне как вспомогательный род войск, но не как основной. Вот в чем, на наш взгляд, главный вывод данной части нашей работы.
Первая мировая война окончательно утвердила то обстоятельство, что отныне главной становится не тактика, а оперативное искусство как метод ведения боевых действий (стратегия есть вещь более высокого порядка). А следовательно, на первое место неизбежно выдвигались не атаки небольшими соединениями (как правило, это и было в числе тех четырех сотен атак, о которых сообщает А.А. Керсновский), а умелые действия конных масс — от дивизии и выше. И вот как раз в этом отношении руководство русской конницей оказалось весьма и весьма неудовлетворительным. Отсутствие надлежащим образом организованных кавалерийских корпусов (и, добавим, столь же надлежащим образом подготовленных начальников этих корпусов) в мирное время приводило к тому, что русским постоянно не хватало конницы в самый нужный момент:
при преследовании австрийцев после боев под Варшавой и Ивангородом в сентябре 1914 года;
при попытке пленения группы Шеффера в боях под Лодзью в ноябре 1914 года;
под Шавли весной 1915 года;
под Свенцянами.
Поэтому же конные корпуса занимали растянутые окопы в 1916 году, а главкоюз ген. А.А. Брусилов и его командармы (прежде всего в 8-й и 9-й армиях) не сумели использовать свою довольно многочисленную конницу для довершения поражения противника, разгромленного на первом этапе Брусиловского прорыва в мае — июне 1916 года.