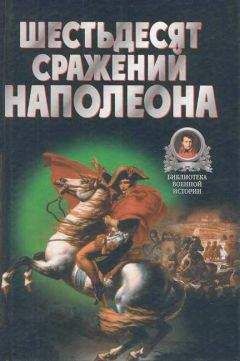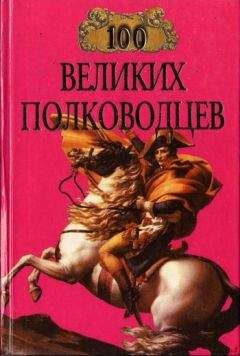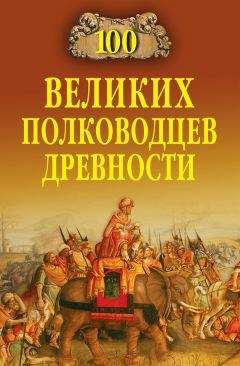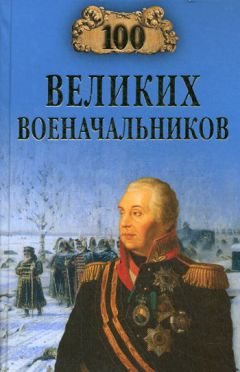Райнхольд Браун - Шрамы войны. Одиссея пленного солдата вермахта. 1945
Но этот всплеск эмоций быстро прошел. Сторонний наблюдатель мог бы его и вовсе не заметить, если бы следил за мной не слишком внимательно. Я взял себя в руки — и, как я уже сказал, за пару секунд — сел на низенькую табуретку — непременный атрибут румынского деревенского дома и, подняв глаза, совершенно спокойно произнес слово, которое хотел произнести. Duminică — звучит это слово по-румынски и означает «воскресенье». Сделав короткую паузу, я добавил короткий глагол, наполнивший смыслом и значением первое слово — fugi, сказал я спокойно и непринужденно, и теперь мой друг знал, что в воскресенье я собираюсь бежать и что решение это не может быть изменено.
— Noapte? [1] — спросил он.
— Da [2], — ответил я, и все стало окончательно ясно.
В воскресенье, поздним вечером, я приду к нему с парой валенок и покину его в обличье румына, я уйду в ночь, чтобы уже никогда не вернуться.
Все было так понятно и так просто.
Но силы тьмы, видимо, не желали отпускать меня на свет. Они нанесли удар, вселили в меня чувство леденящего ужаса, заставившего вздрогнуть от страха все мое существо. Во дворе яростно залаяли хозяйские собаки, и через секунду в дверях появились двое немецких пленных — два моих товарища. По их лицам было ясно, что они немало удивились, увидев румына, который только сегодня днем еще был немцем. Они просто онемели от изумления. Молчал и я, изумленный не меньше их.
Они пришли, чтобы обменять старый китель на что-нибудь съестное. Это не была заранее запланированная сделка. Они зашли в первый попавшийся дом, чтобы выменять китель на хлеб или мамалыгу. К этому трюку пленные прибегали часто, и иногда им действительно удавалось что-то получить взамен. Надо же было случиться, что они зашли в дом моего помощника именно в тот момент, когда я проводил генеральную репетицию побега. Первой мыслью было встать и выйти в темноту, не откладывая дело до воскресенья. Но я тотчас отбросил эту мысль: румын мог пустить по моему следу собак — ведь я не принес ему обещанные валенки! Я хорошо его понимал: всякие сентиментальные чувства и благосклонность мигом улетучиваются, когда не исполняются деловые обязательства. Я промолчал, ожидая, когда мне в голову придет какая-нибудь удачная мысль, и она не заставила себя ждать. Это была сумасшедшая мысль, и я с ходу огорошил ею нежданных гостей: скрывать мои намерения было бесполезно, слишком они были явными, и я сказал им о своем плане и призвал присоединиться ко мне. Я лицемерно солгал, сказав, что все это время просто мечтал найти одного-двух товарищей, но, к несчастью, пока не смог их отыскать. Они молоды, заливался я соловьем, и было бы просто смешно, если бы все вместе не нашли способ обхитрить русских. Я призвал на помощь все свое красноречие, с непередаваемым, напыщенным пафосом я обрушивал на их голову хлесткие фразы. Я говорил о нашей презренной, недостойной жизни, рисуя картины возвращения на родину. Я напирал на то, что наша скотская жизнь вытравливает из нас все человеческое, что она отупляет, отнимает простейшую мысль о том, что надо изменить эту жизнь, бежать отсюда, покончить с этим жалким существованием, для чего требуется намного меньше мужества, чем то, которое они тысячи раз проявляли на фронте. И знаешь, читатель, я не промахнулся! Впервые в жизни я понял, что такое сила слова! Они слушали меня внимательно, ловя каждое движение моих губ. Они были ошеломлены, они с такой страстью внимали моим словам, что я понял, что сумел воодушевить их. По лицам этих отчаявшихся созданий я, к вящей своей радости, видел, что сумел покорить их. Они согласились, решив, что стоит в ближайшие дни попытать счастья втроем. Я сказал, что им надо как можно скорее добыть гражданскую одежду, чтобы они видели, что я настаиваю, что я ничего не скрываю, и прониклись бы ко мне доверием. Я ничего не сказал им про воскресенье. Я ничего не сказал про послезавтра. Мне хотелось только одного — чтобы они молчали…
Поступил ли я низко? — задаю я сейчас вопрос себе и тебе, читатель. Бывают в жизни времена, когда мы остаемся одни, когда нам надо защититься от любого вмешательства извне, когда любая хитрость может считаться оправданной. За долгие дни и ночи, что я обдумывал подробности будущего побега, я пришел к выводу, что бежать надо одному, чтобы ни от кого не зависеть. Я не мог, не имел права опереться на непредсказуемый характер спутников. Я не мог наверняка знать, на что они способны и на сколько времени хватит их упорства и воли. Слишком много разочарований пришлось мне пережить, слишком хорошо стал я видеть подноготную людей, чтобы не понимать, насколько переменчивы людские характеры. Из ста пятидесяти своих товарищей я не знал никого, кому бы мог доверять, никого, кто мог бы сравниться со мной своей силой и волей. Может быть, среди нас и были такие люди, но я не знал их и не общался с ними. Следовательно, бежать я должен был один. Дорога домой будет тяжела, и я не мог обременять себя ненужными попутчиками.
Весь следующий день прошел в тревожном ожидании.
Будут ли молчать те двое, что стали невольными свидетелями моей тайной подготовки к побегу и решили, что и они ее участники? Я продолжал носить маску безропотного смирения и лишь время от времени подмигивал этим двоим, чтобы подбодрить их и призвать к молчанию. Согнувшись в три погибели, со стонами и вздохами, мы, как обычно, таскали бревна; рабский труд, подневольный, как на барщине, под кнутом надсмотрщика. Насколько же легче было сегодня этим двоим при одной мысли о том, что скоро все это будет позади. Нет, я больше не сомневался: они меня не выдадут! Они наверняка живут сейчас только одной мыслью — мыслью о возвращении на родину. Как могут они колебаться и сомневаться, если перед глазами вспыхнул факел свободы? Но хватит ли им сил продержаться оставшееся время, не поймут ли они, что им уже нечего терять? Они должны молчать до завтрашнего вечера. Всего-то до завтрашнего вечера должны они сохранить веру в успех побега. До этого времени в их души не должно закрасться сомнение, колебание или подозрение. Они должны похоронить в душе эту тайну, молчать о ней. Мысленно я заклинал их молчать. До завтрашнего вечера, до завтрашнего вечера должны они предаваться мечте, должны оставаться под чарами моей хитрости! Да, после моего побега они почувствуют себя обманутыми, и от одной этой мысли на губах моих начинала играть дьявольская усмешка. Да, это было дьявольски низко, но я был сыт по горло бесчестным и подлым поведением моих же товарищей, с которыми мне приходилось каждый день сталкиваться. Теперь настала моя очередь посмеяться над ними, теперь я помашу им ручкой, и пусть они потом злобствуют сколько их душе угодно!
Наступил предпоследний вечер. Я ликовал: после работы нам раздавали валенки, и я получил свою пару. Теперь у меня в руках был ключ от выстроенного с таким трудом дома: дом готов, а я готов к переезду. Завтра, в это же время я лягу и притворюсь спящим. Потом, когда все уснут, я встану и, соблюдая осторожность, прокрадусь к двери, как призрак, как беззвучная тень, как ловкая кошка, неуловимая, хотя и живая. Никто меня не услышит, а скрипучую дверь я открою в тот момент, когда скрип заглушат громкие стоны и оглушительный храп. Я буду пробираться босиком с валенками в руках. О, я перехитрю этих остолопов, они ничего не услышат и ничего не заподозрят. Пусть спят спокойно! Потом я стрелой помчусь в ночь, словно молния проскочу я опасность и наутро буду свободен!
Но все вышло по-другому.
Перед последней ночью бывает еще предпоследняя. Все было кончено! Мои планы рухнули, развалились, как карточный домик. Мои расчеты не оправдались. Не осталось никакой надежды. Меня предали!
Подлость совершилась быстро и неожиданно. Лицемерие и ложь перестали прятаться, выступили вперед, набросились на меня и нанесли свой удар, требуя жертвы. Предательство и измена жестоко надсмеялись надо мной. Подлость восторжествовала! Среди ночи в нашу спальню ворвались лагерные полицейские и с руганью, избивая меня по дороге, поволокли в кабинет одного типа из «Свободной Германии». Я до сих пор во всех подробностях, очень отчетливо, помню эту картину. Отвращение и тошнота подступают к горлу, когда я снова представляю себе эту позорную и постыдную сцену. Мне хочется плеваться, когда я мысленно вижу, что тогда происходило. Они стояли вокруг стола, на котором горела свеча. Они не были похожи на чертей, эти ничтожества, нет, они, скорее, напоминали мелкую, грязную, гнойную нечисть. Мешок, ком, метастаз старой отвратительной болезни — предательства, низости и измены — вот что направляло их действия. Ужасен был их вид, меня обуял ужас — казалось, в этой тесной комнате собралась вся мирская нечисть. Я стоял перед ними в своей рваной одежде, безвольно опустив руки. Я понимал, что практически стою на эшафоте под петлей, готовой обвиться вокруг моей шеи. Моими палачами были немцы! Скажи мне, читатель, скажи, что я должен был тогда понять и прочувствовать? Я по очереди смотрел на них, моих самозваных судей! «Ты свинья! — говорили они мне. — Ты грязная собака!» — говорили они. Они брызгали слюной, стараясь выведать то, чего не сказал им предатель. Я не отвечал. Они могли сколько угодно на меня напирать, ругаться, кричать, хватать меня за горло, бить своими грязными руками, грозить мне какими угодно карами. Я ничего не говорил, я просто молчал. Я знал только одно: в эти минуты я теряю все. Но при этом не забывал все время смотреть им в глаза, чтобы они знали, как сильно я их презираю, чтобы сами ощутили всю свою несравненную низость. Они это хорошо чувствовали и от этого приходили в еще большую ярость. О происшествии они уже успели доложить русскому коменданту. Взяли они и тех двух товарищей, которые случайно оказались посвящены в мои планы. Один из них не утерпел и рассказал о происшедшем человеку, которого считал своим лучшим другом. Естественно, я был главным виновником, и вся буря обрушилась именно на мою голову. В конце концов было решено, что на следующий день нас отправят в Фокшаны, где нас ждало достойное и примерное наказание. Что это означает, понимал не только я, но и эти два олуха, которых, как выяснилось, я не зря хотел перехитрить. В Фокшанах нас ждала жестокая расправа — помещение в карцер на хлеб и воду, и просидеть в этой камере пыток нам пришлось бы до отправления следующего транспорта в Россию, в Сибирь. Таковы были наши невеселые перспективы, и сами можете судить, каково было в тот момент мое душевное состояние.