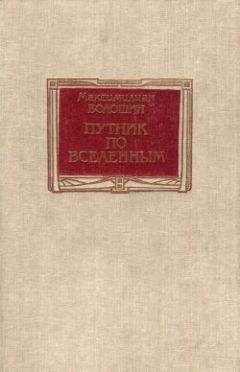Всеволод Рождественский - Максимилиан Волошин - художник
Большой интерес представляет монографический очерк Волошина о В. Сурикове. Великий мастер исторических полотен по предложению И. Грабаря выбрал его себе в биографы, так как считал, что именно с ним он может говорить как художник с художником. Дословные записи этих бесед являются редким искусствоведческим документом. Рукопись этой монографии отличается своеобразной формой изложения материала. В записях бесед Волошин сохранил живой разговорный язык, своеобразный сибирский колорит речи самого Сурикова.
С большим вниманием относился Волошин к талантливым соотечественникам. Он умел гордиться и радоваться успехам других, как своим. Многим начинающим худож-никам он помогал устраивать выставки, поддерживал начинающих поэтов. «Всегда он кого-то выводил в литературный свет, - писал И. Эренбург, - помогал устраивать выставки, сватал редакциям русских журналов молодых французских авторов, доказывал французам, что им необходимо познакомиться с переводами русских поэтов».
Важнейшим свидетельством жизненной и творческой биографии этого сложного и многогранного человека является коктебельский дом Волошина. «Дом поэта», как его называют, - достопримечательность коктебельской долины, это редкий историко-художественный, мемориальный памятник, в котором отражена целая эпоха русской культуры конца XIX - начала XX века. Благодаря заботам жены и друга Волошина Марии Степановны все здесь сохранено, как было при его жизни.
В обширной мастерской, в рабочем кабинете хранится замечательная библиотека: произведения русских и зарубежных классиков, редкие книги по археологии, мифологии, живописи, архитектуре, искусствоведческая литература и многочисленные поэтические сборники.
Мастерская художника - мольберт, палитры, кисти, акварельные краски, пастель-ные мелки и прочие принадлежности живописца. Южная стена напоминает апсиду готической церкви с высокими окнами, а в глубине мастерской - ниша со скульптурой Таиах. Вдоль стен мастерской и кабинета - стеллажи, сделанные, как и многое другое, руками хозяина. Здесь собраны уникальные произведения искусства: фрагменты античной керамики, найденной Волошиным в Крыму, древнеегипетская скульптура, раковины из Индийского океана, обломок древнего корабля, обшитый медными пластинками, бюст Волошина работы Э. Блох, ученицы Родена, авторское повторение «Бюста поэта» работы Витти га, который установлен в Париже, полотна знаменитого мексиканского художника Диего Ривера, произведения русских художников Кругликовой, Головина, Остроумовой-Лебедевой, Бенуа, Петрова-Водкина, Богаевского и работы самого Волошина. В 1932 году, незадолго до смерти (11 августа 1932 года), Волошин этот дом подарил Союзу писателей. Ныне здесь открыт дом-музей М.А. Волошина - филиал Феодосийской картинной галереи им. И.К. Айвазовского.
Все, что находится в этом доме, убеждает в том, что здесь жил человек яркого и своеобразного дарования, пронесший через всю жизнь любовь к родному краю, посвятивший ему всю силу своего таланта.
На гребне холма у голубого Коктебельского залива - могила Волошина.
Максимилиан Волошин
О САМОМ СЕБЕ
Автор акварелей, предлагаемых вниманию публики под общим заглавием "Коктебель", не является уроженцем Киммерии по рождению, а лишь по усыновлению. Он родом с Украины, но уже в раннем детстве был связан с Севастополем и Таганрогом. А в Феодосию его судьба привела лишь в 16 лет, и здесь он кончил гимназию и остался связан с Киммерией на всю жизнь. Как все киммерийские художники, он является продуктом смешанных кровей (немецкой, русской, итало-греческой). По отцовской линии он имеет свои первокорни в Запорожской Сечи, по материнской - в Германии. Родился я в 1877 году в Киеве, а в 1893 году моя мать переселилась в Коктебель, а позже и я здесь выстроил мастерскую.
В ранние годы я не прошел никакого специально живописного воспитания и не был ни в какой рисовальной школе, и теперь рассматриваю это как большое счастье - это не связало меня ни с какими традициями, но дало возможность оформить самого себя в более зрелые годы, сообразно с сознательными своими устремлениями и методами.
Впервые я подошел к живописи в Париже в 1901 году. Я только что вернулся туда из Ташкента, где был в ссылке около года. Я весь был переполнен зрительными впечатлениями и совершенно свободен в смысле выбора жизни и профессии, так как был только что начисто выгнан из университета за студенческие беспорядки "без права поступления". Юридический факультет не влек обратно. А единственный серьезный интерес, который в те годы во мне намечался, - искусствоведение. В Москве в ту пору - в конце 90-х годов прошлого века - оно еще никак не определилось, а в Париже я сейчас же записался в Луврскую школу музееведения, но лекционная система меня мало удовлетворяла, так-как меня интересовало не старое искусство, а новое, текущее. Цель моя была непосредственная: подготовиться к делу художественной критики.
Воспоминания университета и гимназии были слишком свежи и безнадежны. В теоретических лекциях я не находил ничего, что бы мне помогало разбираться в современных течениях живописи.
Оставался один более практический путь: стать самому художником, самому пережить, осознать разногласия и дерзания искусства.
Поэтому, когда однажды весной 1901 года я зашел в мастерскую Кругликовой и Елизавета Сергеевна со свойственным ей приветливым натиском протянула мне лист бумаги, уголь и сказала: "А почему бы тебе не попробовать рисовать самому?" - я смело взял уголь и попробовал рисовать человеческую фигуру с натуры. Мой первый рисунок был не так скверен, как можно было ожидать, но главными его недостатками были желание сделать его похожим на хорошие рисунки, которые мне нравились, и чересчур тщательная отделка деталей и штрихов. Словом, в нем уже были все недостатки школьных рисунков, без знания, что именно нужно делать. Словом, я уже умел рисовать и мне оставалось только освободиться от обычных академических недостатков, которые еще не стали для меня привычкой руки. На другой же день меня свели в Академию Коларосси. Я приобрел лист "энгра", папку, уголь, взял в ресторане мякоть непропеченного хлеба и стал художником. Но кроме того я стал заносить в маленькие альбомчики карандашом фигуры, лица и движения людей, проходящих по бульварам, сидящих в кафе и танцующих на публичных балах. Образцами для меня в то время были молниеносные наброски Форена, Стейнлена и других рисовальщиков парижской улицы. А когда три месяца спустя мы с Кругликовой, Давиденко и А. А. Киселевым отправились в пешеходное путешествие по Испании через Пиренеи в Андорру, я уже не расставался с карандашом и записной книжкой.
В те годы, которые совпали с моими большими пешеходными странствиями по Южной Европе - по Италии, Испании, Корсике, Балеарам, Сардинии, - я не расставался с альбомом и карандашами и достиг известного мастерства в быстрых набросках с натуры. Я понял смысл рисунка. Но обязательная журнальная работа (статьи о художественной жизни в Париже и отчеты о выставках) мне не давала сосредоточиться исключительно на живописи. Лишь несколько лет спустя, перед самой войной, я смог вернуться к живописи усидчиво. В 1913 году у меня произошла ссора с русской литературой из-за моей публичной лекции о Репине. Я был предан российскому остракизму, все редакции периодических изданий для меня закрылись, против моих книг был объявлен бойкот книжных магазинов.
Оказавшись в Коктебеле, я воспользовался вынужденным перерывом в работе, чтобы взяться за самовоспитание в живописи. Прежде всего я взялся за этюды пейзажа: приучил себя писать всегда точно, быстро и широко. И вообще, все неприятности и неудачи в области литературы сказывались в моей жизни успехами в области живописи.
Я начал писать не масляными красками, а темперой на больших листах картона. Это мне давало, с одной стороны, возможность увеличить размеры этюдов, с другой же, так как темпера имеет свойство сильно меняться высыхая, это меня учило работать вслепую (то есть как бы писать на машинке с закрытым шрифтом). Это неудобство меня приучило к сознательности работы, и тот факт, что [в] темпере почти невозможно подобрать тон раз взятый, - к умеренности в употреблении красок и чистоте палитры.
Акварелью я начал работать с начала войны. Начало войны и ее первые годы застали меня в пограничной полосе - сперва в Крыму, потом в Базеле, позже в Биаррице, где работы с натуры были невозможны по условиям военного времени. Всякий рисовавший с натуры в те годы, естественно, бывал заподозрен в шпионстве и съемке планов.
Это меня освободило от прикованности к натуре и было благодеянием для моей живописи. Акварель непригодна к работам с натуры. Она требует стола, а не мольберта, затененного места, тех удобств, что для масляной техники не требуются.