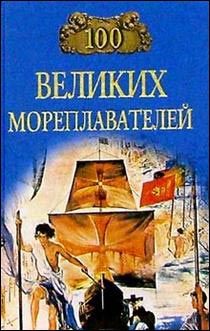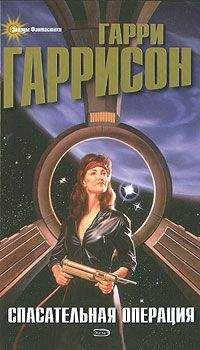Александр Копировский - Церковное искусство. Изучение и преподавание
Изучение теории и истории искусства в полном объеме не может быть массовым, искусствоведами становятся лишь после получения специального образования, в нормальном случае – высшего. Поэтому стремление составителей невероятно сложной и многоплановой школьной программы «Мировая художественная культура»[12] сделать из каждого школьника «юного искусствоведа» параллельно с его обучением часто совсем не связанным с искусством предметам вряд ли можно приветствовать. С большей вероятностью можно при этом воспитать в молодом человеке снобизм, или наоборот – вызвать у него инстинктивную отстраненность от искусства вообще, поскольку оно говорит на таком сложном языке.
С другой стороны, даже человек церковный, любящий Бога «всем сердцем, всей душой, всем разумением и всей крепостью своей» (Мк 12:30) и соприкасающийся поэтому с церковным искусством несравненно чаще, чем многие другие его соотечественники, не знает, как правило, ни языка церковного искусства, ни даже его символики. Он вынужден руководствоваться либо идеологией, разводящей «церковное» и «светское» по разные стороны баррикад, либо своими субъективными привычками и пристрастиями. Конечно, отчасти и на том, и на другом пути можно достичь некоторых положительных результатов, потому что хоть какое-то знакомство с произведениями искусства на них все же происходит. Но плоды оно приносит, скорее, вопреки существующим формам и методам их восприятия, а не благодаря им.
Вспомним основные вехи в истории изучения церковного искусства в России. И, исходя из них, наметим некоторые принципы его изучения сегодня и в ближайшем будущем.
Церковное искусство изучалось в России, начиная с XVIII–XIX вв., в рамках дисциплины «церковная археология». Эта дисциплина была прикладной и составляла часть древней истории, что соответствовало буквальному первоначальному значению слова «археология», использованного Платоном[13]. Впоследствии церковная археология стала частью литургики и, оставаясь прикладной дисциплиной, занималась внешним видом и назначением различных богослужебных предметов, а также типами храмов, христианскими надписями, условными значками и иконографией церковных изображений, т. е. в основном пояснением их сюжетов в контексте богослужебных текстов.
Прикладной характер этой науки, а кроме того ее «юность», существенно сказались на ней. Один из известных российских ученых в этой области профессор А. П. Голубцов так писал в начале ХХ в.: «Церковная археология, быть может, более чем какая-либо другая наука, обладает незавидным свойством отталкивать от себя сухостью своего содержания и отсутствием жизненного интереса»[14]. Ни об эстетической выразительности, ни о духовной символике речи при изучении церковной археологии практически не шло. Например, в монографии А. С. Уварова «Христианская символика» лишь перечислялись и расшифровывались отдельные символические изображения эпохи раннего христианства – корабль, рыба, агнец, пастырь, Орфей и другие[15]. В единственной книге по церковной археологии, в которой этот предмет ставился в связь с историей христианского искусства – учебнике Н. В. Покровского[16], – храмы, церковные изображения, облачения и сосуды описывались в хронологическом ряду, но не анализировались с точки зрения духовного и художественного содержания. Впрочем, эту книгу все же можно считать «первой ласточкой» нового подхода к преподаванию церковного искусства – в нее были включены не только византийские и русские храмы, фрески и иконы, но и художественные памятники языческой древности, и даже западноевропейская живопись на библейские сюжеты эпохи Ренессанса и барокко. Тем самым Н. В. Покровский снял с церковной археологии налет «ископаемости» и второстепенности. Он же, вопреки постановлению Святейшего Синода о запрете показа отдельных фигур и сюжетов Священного Писания вне храма в виде «туманных картин» (аналога более поздних слайдов), стал применять на лекциях проекционный фонарь[17].
Однако в дальнейшем направления в изучении церковного искусства разделились. Ряд выдающихся ученых (П. Муратов, Н. Щекотов, И. Грабарь и другие) стали рассматривать произведения древнерусского искусства в основном в эстетическом аспекте. Например, в широко известном описании академиком И. Э. Грабарем «Троицы» Андрея Рублева, цвет одежд ангелов был назван способным «…вызывать у зрителя сладостное воспоминание о зеленом, слегка буреющем поле ржи, усеянном васильками»[18]. То, что иконы в начале ХХ в. стали воспринимать с позиций высоких эстетических ощущений, как несомненную художественную ценность, было огромным завоеванием церковного искусства. Но стремление отделить иконы, храмы и т. д. от их церковного корня, растворить их в едином море мирового искусства не давало возможности найти единый синтезирующий подход к пониманию церковных художественных произведений.
Другим, в определенном смысле, оппонирующим «эстетическому», стало «богословское» направление в изучении церковной архитектуры и иконописи (Е. Н. Трубецкой, свящ. Павел Флоренский). В нем формы церковного искусства выводились исключительно из внутренней, духовной жизни церкви, из ее догматики, мистики. При этом собственно церковное искусство относилось прежде всего к средневековью, а более поздние его произведения положительно оценивались лишь постольку, поскольку несли в себе явственный отпечаток средневекового художественного строя (о. Павел Флоренский называл его «обратной перспективой»[19]).
Последовательное стремление подчеркнуть символичность как основу языка церковного искусства и противопоставить ее натуралистическому, «иллюзионистическому» языку искусства светского, пусть даже на церковный сюжет, имело свои причины. Во многом это было реакцией на общий упадок духа, на явное распространение в обществе, называвшем себя христианским, «похоти плоти, похоти очей и гордости житейской». Об этом говорил в своих лекциях об иконописи князь Евгений Трубецкой, противопоставляя «вйдение иной жизненной правды» и связанное с ним духовное единство, достигнутое в иконе, разладу и взаимному истреблению, царящим среди людей[20].
Однако метод противопоставления, при всей своей яркости и наглядности, не мог быть ни исчерпывающим, ни хоть как-то плодотворным для изучения языка искусства. Ведь искусство в этом случае оказывается «разделившимся в самом себе»: два его направления (не художники, а именно направления, духовные принципы) борются здесь друг с другом не на жизнь, а на смерть.
После октябрьского переворота победившая материалистическая идеология стала по отношению к церковному искусству пользоваться практически тем же методом, лишь поменяв полюса. Церковное искусство по своим корням было признано чуждым и даже враждебным, многие храмы разрушались, иконы часто выбрасывались и сжигались. В одной из экспозиций Третьяковской галереи 1930-х гг., вспоминал выдающийся историк искусства В. Н. Лазарев, «под иконами, являвшимися жемчужинами древнерусской живописи, были выставлены различные орудия пыток. Тем самым якобы доказывался эксплуататорский характер этой живописи, служившей в руках господствовавшего класса средством для одурманивания народа»[21].
Положительная же оценка сохранившихся памятников церковного искусства (прежде всего иконописи) производилась лишь с позиций сходства их с «реалистическими» изображениями. Так, в ликах апостолов на фресках Андрея Рублева в Успенском соборе Владимира различали черты крестьян, посадских людей и даже «передовых представителей русского общества» его времени[22] (ил. 2).
Виды перспективы. Чертеж из книги Л. Жегина «Язык живописного произведения (Условность древнего искусства)»
Вопрос о языке иконы все же был поставлен в советское время, но в завуалированной форме. Одним из примеров стала работа Ю. А. Олсуфьева, в которой содержательные вопросы иконописи не рассматривались, а речь шла о пространстве, линии, свете (в том числе – о форме и назначении световых бликов), тени и т. п[23].
Более широко вопрос языка иконы был рассмотрен в работах Л. Ф. Жегина, который занимался изображением пространства и композицией в иконописи (в основном – в 20— 30-е гг., результаты его исследований стали публиковаться лишь с 60-х гг.). Пространство иконы и, соответственно, ее композицию со сложными деформациями элементов он объяснял наличием «динамической точки зрения», требующей «суммирования зрительного впечатления»[24]. Изучение языка церковного искусства в таком ключе могло быть лишь уделом специалистов. Ведь в восприятии целостного образа главным становится рациональный момент: зритель все время помнит о принципах деформации и внутренне приспосабливает увиденное к некоему «мысленному», идеальному образу. Более того, Б. А. Успенский (в предисловии к книге Л. Ф. Жегина) писал, что только благодаря проведенной по этой системе «дешифровке» языка древнего искусства (сами произведения при этом рассматриваются как «текст» на нем) мы получаем возможность воспринимать древние изображения и даже реконструировать по ним соответствующие реальные формы[25]. Но трудно согласиться с тем, что «условные приемы передачи пространственных и временных отношений» (проблему передачи пространства и времени Б. А. Успенский считает самым важным в древних изображениях[26]) и есть язык церковной живописи и что освобождение древней системы изображения от искажающего влияния метаязыка наших представлений – единственный способ его изучения.