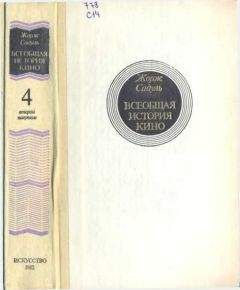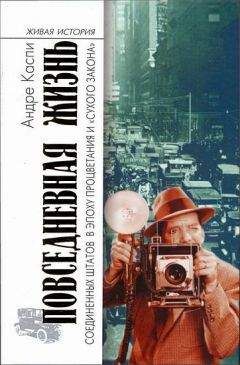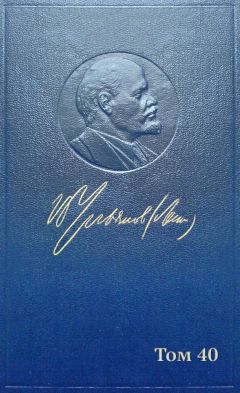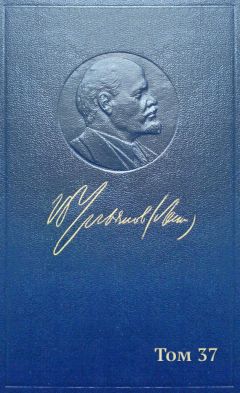Нина Дмитриева - Винсент ван Гог. Очерк жизни и творчества
Но что-то и изменилось, выросло, углубилось по сравнению с прежним. Теперь Ван Гог не только одухотворял деревья, поля, холмы — к нему пришло новое ощущение космического единства сил, действующих и в природе и в человеке. Начиная с арльского периода пейзажи Ван Гога, оставаясь довольно точными портретами местности, воспринимаются в каком-то смысле как фрагменты Вселенной. Все в них, от малого колоска до огромного солнца, сопряжено, пронизано единым упругим ритмом, порывом, движением, напоминающим прибой волн. Все, несмотря на малый размер полотен, масштабно, грандиозно. И фигуры работающих людей органически включены в это вселенское единство: труд человека видится как соучастие в труде всей природы, всего мира. Это, наверно, и есть главная «метафора» живописи Ван Гога, то затаенное смысловое «четвертое измерение», которое мы чувствуем в его картинах.
Есть оно и в «Красных виноградниках» — картине, принадлежащей ныне Московскому музею изобразительных искусств. Ее краски от времени сильно пожухли (как и многие полотна Ван Гога), раньше она была куда более сияющей по цвету, ослепительной, но и теперь поражает силой художественной концепции. Она вся — расплавленное золото и пурпур; снующие фигуры сборщиц винограда представлены не на фоне пейзажа, но вплавлены в него, в его движение; они помогают работе солнца, которое так низко стоит над землей и превращает в кипящее золото ручей, и зажигает красными огнями поле. Ряды ветел в отдалении гнутся, наклоняются так же, как гнутся сборщицы, и кажется — вносят свою долю в общие усилия солнца, воды, людей.
Один из самых известных и в своем роде совершенных пейзажей Ван Гога — «Дорога среди кипарисов»: он написан не в Арле, а позже, в 1890 году, но в нем синтезировались характерные черты стиля художника. Это пейзаж, где все обычно и все необыкновенно. Мотив взят простой: дорога вдоль пшеничного поля спускается под гору, по ней идут, на первом плане, двое мужчин, возвращающихся с работы (один несет лопату на плече), сзади них лошадь, запряженная в двуколку, вдали — хижина. Над всем царит высокий, почти черный кипарис. Только одно, кажется, выходит за пределы естественного: на небе два светила (но и так ведь бывает по вечерам, когда солнце еще не зашло, а месяц уже светит).
Однако этот мирный сельский пейзаж производит впечатление совершенно особое, далекое от обычной лирической настроенности, порождаемой такого рода мотивами. Как будто бы и кипарис, и небо, и путники — все увидено в небывалом ключе, сквозь космическую призму. В этом фрагменте одушевленного космоса все в равной мере значительно, величаво, вместе с тем тревожно, почти грозно. Все колышется: нет ни горизонталей, ни вертикалей; змеящиеся волнообразные перекаты, обозначенные направлением мазков, льются вниз вместе с дорогой, вздымаются к небу вместе с кипарисом, образуют спирали вокруг солнца и месяца и
опять спускаются к земле. Вспоминаются те строки из «Фауста» Гёте, где, вызванный заклинаниями Фауста, является Дух Жизни, неутомимый ткач всего сущего:
В буре деяний, в волнах бытия
Я подымаюсь,
Я опускаюсь…
Смерть и рождение —
Вечное море;
Жизнь и движение
В вечном просторе…
Пейзажи зрелого Ван Гога одновременно и драматичны, и как-то торжественнопраздничны. Драматическая напряженность есть и в самых светлых, «утешительных» по мотиву и по настроению весенних полотнах; яркий гимн Духу Жизни слышится даже в самых трагических вещах, даже в такой подлинно зловещей картине, как и «Вороны над хлебным полем», — одной из последних картин художника.
Когда сравниваешь фотографии тех мест, которые писал Ван Гог, с его этюдами и рисунками, невольно поражаешься и тому, насколько у него преобразована, приподнята, переведена на иной язык натура, и тому, как он при этом остается верен натуре, иной раз до мелочей. Сфотографированные пейзажи (например, вид арльского канала с подъемным мостом, берега моря в Сен-Мари, больничного сада и другие) выглядят ужасающе буднично, прозаично — в них на первый взгляд нет и намека на те волнующие образы, которые рождались под кистью Ван Гога. А между тем они рождались именно здесь, именно этим кусочком местности вдохновлены, в нем «прочитаны», и мало того — он почти документально в них воспроизведен. Мост через канал Ван Гог изобразил скрупулезно точно, со всеми его балками и подвесными цепями (вспомним, как старательно изображал Винсент в свое время устройство ткацкого станка). Уличное кафе в Арле — можно не сомневаться, что тут был именно такой парусиновый навес с крючками, именно такие гнутые ножки у столов, такой фонарь и все остальное. Вот сад арльской больницы: на картине те же, что и на фотографии, аркады, клумбы, фонтан посередине. Или из более поздних работ — бульвар в Сен-Реми со старыми платанами. Он сфотографирован с той же точки зрения, с какой его писал Ван Гог, и легко убедиться, что даже форма ствола каждого дерева на картине сохранена та самая, как в натуре.
Что же художник изменял? Почти ничего и всё! Можно сказать, выражаясь фигурально, что он владел духовным рентгеном, с помощью которого прозревал душу вещей за их оболочкой. Старые узловатые стволы становились у него мудрыми и страдающими; обстановка уличного кафе — лихорадочной; черепичные крыши домов уподоблялись скалистым наслоениям; тропинки изгибались круче, извилистей, очертания вибрировали, размеры солнца росли — и все пламенело, словно очищенное от житейской мути и пыли, первозданными красками драгоценных камней и живых цветов.
Некоторые критики называли впоследствии методы Ван Гога «гиперболическим натурализмом». Как бы ни называть их, пример живописи Ван Гога может натолкнуть на размышления и выводы общего характера. Хотя бы на такой: фотография, пусть самая усовершенствованная, никогда не в состоянии заменить живопись, причем живописи нет нужды становиться абстрактной или слишком условной, чтобы
выдержать соперничество механических способов изображения. Она может, как у Ван Гога, оставаться очень близкой к натуре и вместе с тем преобразовывать и одухотворять натуру безгранично.
Помимо пейзажей, Ван Гог продолжал писать портреты. Тут у него были свои заветные идеи. «Мне хотелось бы, — говорил он, — писать мужчин или женщин так, чтобы вкладывать в них что-то от вечности, символом которой был некогда нимб, от вечности, которую мы ищем теперь в сиянии, в вибрации самого колорита… Ах, портрет, портрет с глубокой мыслью, портрет — душа модели — вот что обязательно должно появиться!.. Я постоянно надеюсь совершить в этой области открытие, например, выразить чувства двух влюбленных сочетанием двух дополнительных цветов, их смешением и противопоставлением, таинственной вибрацией родственных тонов. Или выразить зародившуюся в мозгу мысль сиянием светлого тона на темном фоне. Или выразить надежду мерцанием звезды, пыл души — блеском заходящего солнца. Это, конечно, не иллюзорный реализм, но разве это менее реально?»
Как видим, и здесь художественные идеи Ван Гога, оставаясь в основе теми же, какие он вынашивал прежде, расширились, приобрели новую масштабность. Раньше он мыслил портреты крестьян как галерею определенного социального типа. Теперь он хочет большего: вкладывать в изображения людей «нечто от вечности».
С портретами ему приходилось труднее, чем с пейзажами. Он жил в Арле замкнуто. Если природа Арля была его природа, то человеческая среда в этом городе была совсем не его среда, и он чувствовал себя почти на необитаемом острове. В одном из писем, рассказывая о своих впечатлениях от романского (он называет его готическим) храма св. Трофима, Ван Гог говорит: «Этот замечательный по стилю памятник кажется мне явлением из иного мира, иметь что-то общее с которым мне хочется так же мало, как с достославным миром римлянина Нерона». И добавляет: «Сказать тебе всю правду?.. Зуавы, публичные дома, очаровательные арлезиа-ночки, идущие к первому причастию, священник в стихаре, похожий на сердитого носорога, и любители абсента также представляются мне существами из иного мира».
Правда, он писал, когда представлялась возможность, и арлезианских дам, и зуавов, и посетителей баров, любителей абсента, но эти люди оставались ему чужими, и волей-неволей он писал их как чужих, как исчадия душного и жестокого мира консервативной провинции. В отношении к арльским обывателям у него нет того задушевного человеческого отклика, какой был к «едокам картофеля». В арльских портретах появляется нота горькой резкости — например, когда он пишет портрет зуава «с крошечной мордочкой, лбом быка и глазами тигра» в жестких контрастах красного и зеленого. По энергии рисунка, по смелости новаторского цветового решения портрет зуава великолепен, но «души модели» в нем нет: художник пишет этого человека «из иного мира» холодно и отстраненно.