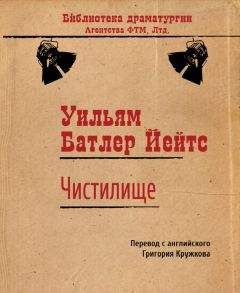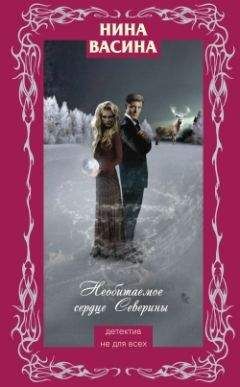Андре Руйе - Фотография. Между документом и современным искусством
Формы истины
Итак, на протяжении более ста лет достоверное изображение отождествлялось с фотографией-документом, ее машиной, практиками и формами. Истина имела свои формы, равно как и свою аппаратуру и свои процедуры, поскольку истина, или, скорее, вера в истину, не имманентна процессу, как слишком часто полагают. Истина ни в коей мере не является второй природой фотографии, а только результатом верования, которое в определенный момент истории мира и изображений укореняется в практиках и формах, поддерживаемых определенной аппаратурой. Истина фотографии-документа утверждается через различение с истиной живописи или рисунка – с одной стороны и с истиной художественной фотографии – с другой. Фотографические формы истины имеют тенденцию смешиваться с формами полезного.
Четкость
Когда в середине XIX века художник-фотограф Шарль Негр различает искусство и фотографию как «интерпретацию» и «точную передачу» природы, он не относит фотографию строго к разряду документа, «серьезного изучения деталей». Он верит, что она открыта для искусства, может стать «живописным видом» в силу совершаемых формальных выборов, принятой эстетической позиции. «В репродукциях античных и средневековых памятников, которые я предлагаю вниманию публики, – отмечает он в 1854 году в своем сборнике “Юг Франции: Исторические места и памятники”, – я ставил своей целью соединить живописный вид с серьезным изучением деталей […]. Так, для архитектора я сделал общий вид каждого памятника, поместив линию горизонта в середину высоты здания, а точку зрения – в центр. Я стремился избежать деформаций перспективы и придать [фотографическим] рисункам вид и точность геометрической проекции […]. Исполнив долю архитектора, я подумал, что должен выполнить долю скульптора и воспроизвести как можно крупнее самые интересные детали скульптуры. Поскольку я сам живописец, я работал и для живописца согласно моим личным вкусам. Везде, где я мог избавиться от архитектурной точности, я сделал как в живописи; тогда я жертвовал некоторыми деталями, если это требовалось для достижения особого эффекта, способного передать истинный характер памятника и сохранить поэтическое очарование, которое его окружает»[116]. От точности к живописности, от документа к факту – так эстетические выборы варьируются согласно назначению изображений: точность для архитекторов и скульпторов, жертвование деталями для живописцев. В каждом секторе своя правда, и для каждой правды свои формы.
Будучи художником, Шарль Негр является адептом знаменитой «теории жертв», одного из фундаментальных критериев искусства той эпохи. «Жертва» означает эстетическую позицию, диаметрально противоположную изобилию и точности деталей, именно поэтому она и служит аргументом для тех, кто стремится придать радикальность противопоставлению искусства и документа. Мы уже упоминали критика Гюстава Планша, упрекающего фотографию в том, что она ничего не опускает и ничем не жертвует – в противоположность искусству, которое должно «выбирать то, что ему подходит, и отвергать то, что ему не подходит»[117]. Четкость, точность, тщательность описания, обилие деталей одновременно характерны для фотографического документа и исключены из сферы искусства – это мнение разделяют такие разные личности, как Планш и Делакруа. По мнению последнего, фотография «затмевает взгляд»[118] из‑за «верности» и точности; ее «слабость» парадоксальным образом заключена в ее слишком большом «совершенстве». Для Бодлера, как известно, фотография являет собой самое красноречивое выражение «постепенного доминирования материала»[119], прогресса, «исключительного вкуса к Реальному» – словом, это зловещая угроза «вкусу к Красоте». Бодлер обвиняет фотографию в том, что она разрушает искусство, сводя его к точному индустриальному воспроизведению природы. Традиционный соперник Идеального в искусстве, Реальное таким образом оказывается в сомнительном союзе с фотографией, «самым смертельным врагом искусства».
Однако четкость и детальность вовсе не являются абсолютно документальными чертами, как и размытость не является обязательным условием искусства. Со стороны искусства жертвование деталями служило знаменем традиционных ценностей, классических и романтических, в борьбе против современных ценностей, воплощенных в фотографии. Со стороны фотографии размытость стала выступать как метка художественности для тех (от калотипистов к пикториалистам и до современных фотографов-художников), кто защищал фотографическое искусство, расположенное по ту сторону документа и опирающееся на пассеистские концепции искусства. «Меньше тонкости, больше эффекта; меньше деталей, больше воздушной перспективы; меньше чертежа, больше картины; меньше машины, больше искусства»[120], – таково кредо художественной фотографии, сформулированное в 1860 году Анри де Ла Бланшером в его «Искусстве фотографа». Тонкость фотографического чертежа и эффект картины на самом деле соответствуют двум режимам истины (истина поверхности или истина глубины; истина симулякра или истина копии) и двум типам отношения к изображению: дешифровка деталей или восприятие целого. Создающий иерархии взгляд искусства противопоставлен эгалитарному взгляду фотографии-документа, а полотно как целостность противопоставлено фотографии как фрагменту. В конечном счете радикально отдаляет фотографию от искусства прежде всего то обстоятельство, что на всех уровнях «второстепенное столь же важно, как главное»[121], что процесс не устанавливает никакой иерархии: ни между регистрируемыми предметами, ни между передаваемыми деталями, ни между краями и центром изображения.
Тем не менее история фотографии обязана разрушить слишком условное отождествление четкости с документом, равно как и размытости – с искусством. В период перед Второй мировой войной и после нее репортаж научился широко использовать размытость, чтобы придать значительную силу, интенсивность и динамизм документальным, спортивным, военным и приключенческим снимкам. В то же время чистота и четкость, в течение долгого времени запрещенные в поле искусства фотографии, становятся его главным полюсом с завершением пикториализма в начале 1930‑х годов. У немецких и американских фотографов этого времени старая оппозиция документа и искусства разрешается в пользу документального искусства. От Августа Зандера до Уолкера Эванса, от Альберта Ренгер-Патча до Доротеи Ланж, от Карла Блоссфельдта до первых изображений Анри Картье-Брессона позиция остается сходной: фотографировать «вещи как они есть», принимать мир таким, каков он есть, каким он предстоит перед аппаратом. После мизансцен мастерских профессионального портрета, ретуши пикториалистов и экспериментов авангарда документалистика претендует на то, что она являет необработанную реальность[122].
Прозрачность
Прозрачность, как и четкость, часто считается внутренним свойством фотографии и гарантией истины. Размах и даже сама неудача той обширной работы, которую Альфонс Бертильон вел с 1888 года в Службе идентификации префектуры полиции Парижа, одновременно и раскрывают огромное доверие, оказываемое силе фотографической истины, и отлично проясняют свойственные ей пределы. У Бертильона усиление полицейского контроля достигается с помощью максимальной прозрачности изображения совершенно так же, как, согласно адептам паноптизма, контроль над заключенными строится на прозрачности пенитенциарной архитектуры[123]. В каждом секторе своя правда; для каждой правды свои формы.
Бертильон использует фотографию в надежде улучшить методы контроля правосудия над преступниками и расширить возможности полицейского следствия. Его заслугой было понимание того, что это предполагает точную и строгую адаптацию формы изображения и что эстетические вопросы неотделимы от административных, организационных и технических аспектов. Приступая в префектуре полиции к использованию фотографии, которую он считает неприспособленной к «поставленной цели», Бертильон задумывает «научную систему идентификации»[124] и радикально новый способ фотографировать лица. Его попытки состоят главным образом в том, чтобы отделить судебную фотографию от «художественных, но тем самым слишком неопределенных традиций коммерческой фотографии». В противоположность критике, обыкновенно адресуемой фотографии, Бертильон считает, что в ней искусство и коммерцию соединяет прочный союз и это создает принципиальное препятствие для ее эффективности в качестве судебного материала. Такой ситуации может положить конец только отделение судебной фотографии от «коммерческих и художественных портретов», разрыв всех ее связей с искусством. «Достаточно, – замечает он, – отодвинуть в сторону любые эстетические соображения и заниматься только научной и особенно полицейской стороной дела».