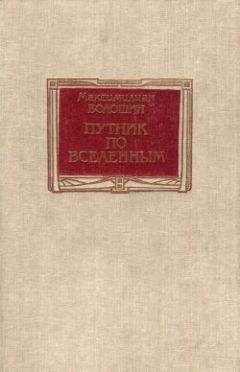Всеволод Рождественский - Максимилиан Волошин - художник
Это о Елизавете Ивановне Димитриевой между двух зеркал: настольным и настенным, Елизавета Ивановна Димитриева насмерть обиженная бы - даже на острове, без единого человека, Елизавета Ивановна Димитриева наедине сама с собой.
Но есть еще Елизавета Ивановна Димитриева - с людьми. Максимилиан Волошин знал людей, то есть знал всю их беспощадность, ту - людскую - и, особенно, мужскую - ничем не оправданную требовательность, ту жесточайшую неправедность, не ищущую в красавице души, но с умницы непременно требующую красоты, - умные и глупые, старые и молодые, красивые и уроды, но ничего не требующие от женщины, кроме красоты. Красоты же - непреложно. Любят красивых, некрасивых - не любят. Таков закон в последней самоедской юрте, за которой непосредственно полюс, и в эстетской приемной петербургского "Аполлона". Руку на сердце положа, - может школьная, скромная, хромая, может Е. И. Д. оплатить по счету свои стихи? Может Е. И. Д. надеяться на любовь, которую не может не вызвать ее душа и дар? Стали бы, любя ее ту, любить такую? На это отвечу: да. Женщины и большие, совсем большие поэты, да и то большие поэты! - вспомним Пушкина, любившего неодушевленный предмет Гончарову. Стало быть, только женщины. Но думает ли молодая девушка о женской дружбе, когда думает о любви, и думает ли молодая девушка о чем-либо другом кроме любви? Такая девушка, с такими стихами...
Следовательно, надежды на любовь к ней в этом ее теле - нет, больше скажу: это ее физическое явление равняется безнадежности на любовь. Напечатай Е. И. Д. завтра же свои стихи, то есть влюбись в них, то есть в нее, весь "Аполлон" - и приди она завтра в редакцию "Аполлона" самолично такая, как есть, прихрамывая, в шапочке, с муфточкой - весь "Аполлон" почувствует себя обкраденным, и, мало разлюбит, ее возненавидит весь "Аполлон". От оскорбленного: "А я-то ждал, что..." - до снисходительного: "Как жаль, что..." Ни этого "ждал", ни "жаль" Е. И. Д. не должна прослышать.
Как же быть? Во-первых и в главных: дать ей самой перед собой быть, и быть целиком. Освободить ее от этого среднего тела - физического и бытового, - дать другое тело: ее. Дать ей быть ею! Той самой, что в стихах, душе дать другую плоть, дать ей тело этой души. Какое же у этой души должно быть тело? Кто, какая женщина должна, по существу, писать эти стихи, по существу, эти стихи писала?
Нерусская, явно. Красавица, явно. Католичка, явно. Богатая, о, несметно богатая, явно (Байрон в женском обличии, но даже без хромоты), то есть внешне счастливая, явно, чтобы в полной бескорыстности и чистоте быть несчастной по-своему. Роскошь чисто внутренней, чисто поэтовой несчастности - красоте, богатству, дару вопреки. Торжество самой субстанции поэта: вопреки всему, через все, ни из-за чего - несчастности. И главное забыла: свободная - явно: от страха своего отражения в зеркале приемной "Аполлона" и в глазах его редакторов.
Как же ее будут звать? Черубина рождалась в Коктебеле, где тогда гостила Е. И. Д. Однажды, год спустя, держу у Макса на башне какой-то окаменелый корень, принесенный приливом, оставленный отливом.
"А это, что у тебя сейчас в руках, это - Габриак. Его на песке, прямо из волны, взяла Черубина. И мы сразу поняли, что это - Габриак". - "А Габриак - что?" - "Да тот самый корень, что ты держишь. По нему и стала зваться Черубина". - "А Черубина откуда?" - "Керубина, то есть женское от Херувим, только мы К заменили Ч, чтобы не совсем от Херувима". Я, впадая: "Понимаю. От черного Херувима".
Итак, Черубина де Габриак. Француженка с итальянским именем, либо итальянка с французской фамилией. Единственная дочь, живет в строгой католической семье, где девушки одни не ходят и стихов не пишут, а если пишут - то уж, конечно, не печатают. Гонорара никакого не нужно. В "Аполлон" никогда не придет. Пусть и не пытаются выследить - не выследят никогда, если же выследят - беда и ей, и им. Единственная достоверность: по воскресеньям бывает в костеле, но невидима, ибо поет в хоре. Всё.
Как же все это - "Аполлону", то есть людям, то есть всему внешнему миру внушить? Как вообще вещи внушают: в нее поверив. Как в себя такую поверить? Заставить других поверить. Круг. И в таком круге, благом на этот раз, постепенное превращение Е. И. Д. в Черубину де Габриак. Написала, - поверила уже буквам нового почерка - виду букв и смыслу слов поверил адресат, ответу адресата, то есть вере адресата - многоликого адресата, единству веры многих - поверила Е. И. Д. и в какую-то секунду - полное превращение Елизаветы Ивановны Димитриевой в Черубину де Габриак.
Начнемте, Елизавета Ивановна?
- Начнемте, Максимилиан Александрович!
В редакцию "Аполлона" пришло письмо. Острый отвесный почерк. Стихи. Женские. В листке заложен не цветок, пахучий листок, в бумажном листке древесный листок. Адрес "До востребования Ч. де Г.".
В редакцию "Аполлона" через несколько дней пришло другое письмо - опять со стихами, и так продолжали приходить, переложенные то листком маслины, то тамариска, а редакторы и сотрудники "Аполлона" как начали, так и продолжали ходить как безумные, влюбленные в дар, в почерк, в имя - неизвестной, скрывшей лицо.
Где-то в Петербурге, через ров рода, богатства, католичества, девичества, гения, в неприступном, как крепость, но достоверном - стоит же где-то! - особняке живет девушка. Эта девушка присылает стихи, ей отвечают цветами, эта девушка по воскресеньям поет в костеле - ее слушают. Увидеть ее нельзя, но не увидеть ее - умереть.
И вот началась эпоха Черубины де Габриак.
Влюбился весь "Аполлон" - имен не надо, ибо носители иных уже под землей - будем брать "Аполлон" как единство, каковым он и был - перестал спать весь "Аполлон", стал жить от письма к письму весь "Аполлон", захотел увидеть весь "Аполлон". Их было много, она - одна. Они хотели видеть, она скрыться. И вот - увидели, то есть выследили, то есть изобличили. Как лунатика - окликнули и окликом сбросили с башни ее собственного Черубининого замка - на мостовую прежнего быта, о которую разбилась вдребезги.
- Елизавета Ивановна Димитриева - Вы?
-Я.
Одно имя назову - Сергея Маковского, поведшего себя, по словам М. Волошина, безупречным рыцарем, то есть не только не удивившегося ей, такой, а сумевшего убедить ее, что все давно знал, а если не показывал, то только затем, чтобы дать ей, Е. И. Д., самораскрыть себя в Черубине до конца. За этот кровный жест - Сергею Маковскому спасибо.
Это был конец Черубины. Больше она не писала Может быть, писала, но больше ее никто не читал, больше ее голоса никто не слыхал. Но знаю, что ее дружбе с М. В. конца не было. Из стихов ее помню только уцелевшие за двадцатилетие жизни и памяти строки:
В небе вьется красный плащ, Я лица не увидала!
И еще:
Даже Ронсара сонеты Не разомкнули мне грусть. Все, что сказали поэты, Знаю давно наизусть! И - в ответ на какой-то букет: И лик бесстыдных орхидей Я ненавижу в светских лицах!
Образ ахматовский, удар - мой, стихи, написанные и до Ахматовой, и до меня, - до того правильно мое утверждение, что все стихи, бывшие, сущие и будущие, написаны одной женщиной - безымянной.
И последнее, что помню: О, суждено ль, чтоб я узнала Любовь и смерть в тринадцать лет!
и магически и естественно перекликающееся с моим:
Ты дал мне детство лучше сказки И дай мне смерть - в семнадцать лет!
С той разницей, что у нее суждено (смерть), а у меня - дай. Так же странно и естественно было, что Черубина, которой я, под непосредственным ударом ее судьбы и стихов, сразу послала свои, из всех них, в своем ответном письме, отметила именно эти, именно эти две строки. Помню узкий лиловый конверт с острым почерком и сильным запахом духов, Черубинины конверт и почерк, меня в моей рожденной простоте скорее оттолкнувшие, чем привлекшие. Ибо я-то, и трижды: как женщина, как поэт и как неэстет любила не гордую иностранку в хорах и на хорах жизни, а именно школьную учительницу Димитриеву - с душой Черубины. Но дело-то ведь для Черубины было - не в моей любви.
Черубина де Габриак умерла два года назад257 в Туркестане. Не знаю, знал ли о ее смерти Макс.
Почему я так долго на этом случае остановилась? Во-первых, потому, что Черубина в жизни Макса была не случаем, а событием, то есть он сам на ней долго, навсегда остановился. Во-вторых, чтобы дать Макса в его истой сфере женских и поэтовых душ и судеб. Макс в жизни женщин и поэтов был providentiel, когда же это, как в случае Черубины, Аделаиды Герцык и моем, сливалось, когда женщина оказывалась поэтом, или, что вернее, поэт женщиной, его дружбе, бережности, терпению, вниманию, поклонению и сотворчеству не было конца. Это был прежде всего человек со-бытийный. Как вся его душа - прежде всего - сосуществование, которое иные не глубоко глядящие называли мозаикой, а любители ученых терминов - эклектизмом.
То единство, в котором было всё, и то всё, которое было единством.
Еще два слова о Черубине, последних. Часто слышала, когда называла ее имя: