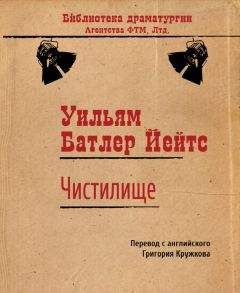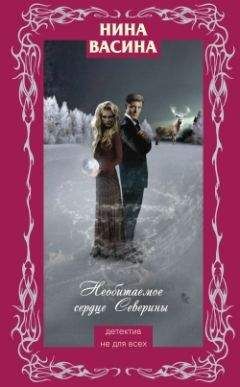Андре Руйе - Фотография. Между документом и современным искусством
Барт – зритель, исповедующий принцип «это было», – так же, как и Картье-Брессон – оператор с его принципом «решающего мгновения», каждый на свой манер и соответственно своему положению, приписывают вещи основополагающую роль в ущерб фотографическому процессу и изображению. Вещь-модель, отношения с которой сообщают последнюю истинность репрезентации, в этой концепции наделяется статусом инварианта, сущностной неизменности. Равным образом Барт доверяет основополагающую роль позе. По его забавному утверждению, в фотографии «на мгновение, каким бы кратким оно ни было, реальная вещь находится перед глазами неподвижно», в ходе процесса «нечто располагается перед маленьким отверстием», тогда как в кино «нечто проходит перед тем же самым маленьким отверстием»[100]. Неподвижность и неизменность вещи, бессилие оператора, тщетность любого почерка или «манеры» – случай понятен: фотография «не изобретает; она есть сама аутентификация; редкие приемы, которые она допускает, – не доказательства; напротив, это трюки»[101].
Бартовская концепция является плоско репрезентативной или, скорее, констатирующей[102]. Кроме всего прочего, Барт странным образом игнорирует тот факт, что фотографировать не значит просто регистрировать, передавать; что самый слабый снимок никогда не сводится к прямому и автоматическому закреплению на чувствительной поверхности следа предварительно данной вещи. Если любой снимок требует, чтобы обязательно реальная и материальная вещь прошла перед объективом (без необходимости неподвижности!), эта конфронтация никогда не проходит бесследно – как для изображения, так и для вещи. В действительности встреча происходит между вещью и фотографией, а фотографический процесс есть в точном смысле слова событие этой встречи. Вместо того чтобы игнорировать друг друга, как думает Барт, вещь и фотография начинают друг на друга влиять. Фотографируется не вещь в себе, неподвижная и жесткая, но вещь, вовлеченная в уникальный фотографический процесс, единственность которого определяет условия контакта и в результате саму форму изображения. Именно это и отрицается культом референта.
Например, один и тот же автомобиль будет сфотографирован по-разному в ходе рекламной кампании, при участии в ралли, для протокола о ДТП или на семейной фотографии. Одно и то же здание, материально неизменное, предстанет в бесконечных вариациях в зависимости от точек, по необходимости нематериальных, откуда оно будет видно, и от эстетического выбора, и вовсе нематериального, который будет руководить исполнением изображения. Наконец, портрет всегда возникает на скрещении как минимум двух серий вариаций: бесконечного числа вариантов выражения лица и множества вариантов действий оператора (точка зрения, кадрирование, выбор объектива, свет, момент нажатия на спусковой механизм и т. д.). Портрет является не репрезентацией, копией или симулякром лица-вещи-модели, как предполагается, предсуществующей изображению, но фотографической актуализацией лица-события в вечном становлении. Это дважды ставит под сомнение платоническую парадигму репрезентации, принятую Бартом и традиционными концепциями документа. С одной стороны, это разрушает понятие модели и репрезентации: фотография не представляет предсуществующую вещь такой как она есть, она производит изображение в ходе процесса, ставящего вещь в контакт с другими материальными и нематериальными элементами и вовлекает ее в изменения. С другой стороны, это выводит фотографию из области реализаций в область актуализаций, из области субстанций в область событий.
Прозрачность изображения, или неразличимость дистанции между изображением и вещью, составляет часть способов высказывания истины, которые изначально сопровождают фотографию-документ, потому что они укоренены в способе, каким она видит и показывает. Кроме того, эти способы высказывания отзываются в настоящих подземных толчках, вызванных фотографией в поле репрезентации в начале 1840‑х годов, когда она противопоставила художественному идеалу материальные, земные и профанные ценности машины. В то время как живопись подражала, фотография только регистрировала и показывала; она разрушила имитацию и утвердила буквальную репродукцию. Между имитацией и репродукцией фотография-документ изобрела совершенный глаз современности. Сегодня мораль «классического» репортажа, без сомнения, является наиболее крайним выражением концепции, согласно которой изображение – это репродукция вещи, предшествующей и внешней по отношению к нему, оригинала, который ему предсуществовал. Точность и истинность сами по себе оцениваются по отношению к внешней предсуществующей модели, чей облик изображение должно воспроизвести. Именно в рамках этой метафизики репрезентации находятся постоянно возобновляющиеся применительно к фотографическим изображениям дебаты о природе, копии и симулякре: в то время как копии-иконы, главным образом живописные, превозносятся за внутреннее и духовное сходство и потому объявляются достойными искусства, фотографии не могут претендовать ни на что, кроме статуса симулякра, деградирующей непохожей копии, отмеченной лишь внешним сходством, несовместимым с искусством.
Симулякр
Мы уже вспоминали утверждение Эжена Делакруа[103], что фотография, к которой он иногда и сам прибегал, страдает парадоксальной «слабостью», происходящей от ее слишком большого «совершенства», от ее «претензии передать все». В то время как полотно – это целостность, фотография – только фрагмент. Она остается радикально чужда искусству в особенности потому, что ее процесс не устанавливает никакой иерархии. Если искусство иногда и посещает фотографию, это возможно только в разрывах процесса, в его «несовершенствах» и «лакунах». Что касается ее документальных функций, и они тоже скомпрометированы бесконечными деталями и негибкой перспективой, в силу чего фотография даже «искажает вид предметов из‑за своей точности».
Говоря в платоновских терминах, Делакруа рассматривает живопись как копию, а фотографию-документ – как симулякр. В то время как первая может претендовать на сходство, второй обречен на несходство. У Платона, как известно, реальность делится на три уровня: идея, или сущностная форма, по отношению к которой в чувственном мире различаются естественная или искусственная вещь и изображение этой вещи, полученное через подражание. В примере о кровати («Софист», 236 с): идея кровати, кровать, сделанная ремесленником, и живопись, представляющая кровать. Чувственный, множественный, изменчивый и подверженный порче мир – только копия и деградация идей; лишь идеи образуют абсолютную, единую, неподвижную и вечную реальность. Эти столь классические вопросы проходят через всю полемику о фотографической имитации.
Имитация предполагает допущение того, что существует «вещь», оригинал, модель, изображение, копию или симулякр которой производят, и признание того, что между первой и вторым существуют двойные отношения: удваивающего сходства и дистанции. В отношениях имитации вещь существует прежде своего изображения и независимо от него, при этом первая и второе одновременно связаны и разделены. Так изображение мерцает между удвоением и дистанцией, Тем же и Другим, идентичностью и различием, вещью и Идеей – чувственным и умопостигаемым, между сходством и несходством.
Для живописца Эжена Делакруа, как и для писателя Франсиса Вея (оба скорее благожелательны к фотографии), подражание означает прежде всего восхождение из чувственного мира в высший мир Идей, а «сходство отличается от материального факта»[104]. Для них, как и для многих других (реалистов, эмпириков, идеалистов и даже рационалистов), художественное сходство – это научное несходство; таким образом, внутреннее и духовное сходство копии-живописи противостоит внешнему и материальному сходству симулякра-фотографии. Сходство в искусстве возникает скорее из неточности, чем из точности, скорее из «преднамеренной неверности», чем из «материально верной копии». Оно представляет собой плод скорее интерпретации, чем «абсолютной точности». Поскольку сходство исключает смешение с предметом, платоническая копия предполагает кажущуюся неточность и жертвование деталями. Напротив, поскольку симулякр воспроизводит не предмет (такой, каков он есть), но только его видимость (такую, какой она воспринимается), он ставит своей целью быть неотличимым, что и обрекает его на несходство, на двойное лукавство: деформировать предмет, чтобы сойти за него[105].
С момента своего появления фотография для многих авторов становится самой парадигмой несходства, неподчинения Идее, лежащей в основе вещи и обеспечивающей истинное сходство, воплощением утраты внутренней существенной связи между изображением и его моделью ради простой механической и материальной передачи. Сила этого враждебного дискурса соразмерна широте изменений, которые фотография произвела в сфере изображений: она завершила имитацию, одновременно утрировала ее и упразднила. Поставив изображение под власть камеры обскуры и строгих законов оптики, фотография систематизировала и обобщила линейную перспективу, определяющую имитацию, тогда как небывалые качества машины, изобилие деталей и замещение мира Идей низшим порядком материи разрушили великие принципы имитации, в особенности жертву и идеал. Итак, завершение имитации состоит в том, что дистанция уничтожилась в удвоении, сходство разрушилось несходством, различие растворилось в идентичности – произошла замена истины копии на истину симулякра.