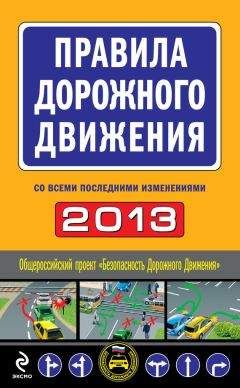Е. Капинос - Поэзия Приморских Альп. Рассказы И.А. Бунина 1920-х годов
Сюжет о Гаутаме переводит жизненные, земные, мимолетные события в совершенно иной, вневременной план, где «человеческое» измерение меняется на нечеловеческое, стихийное. Легендой о Гаутаме страсть утверждается как глубинная природная сила, которая зарождается за пределами рационального человеческого сознания и самосознания, и лишь «узнается», «вспоминается» как сладкий миг собственного, но в то же время не своего опыта, как что-то достигающее «я» из довременной глубины. Пример, конечно, высвечивает механизмы памяти, освобожденной от субъекта воспоминаний, относительно независимой, раздвигающей пределы «я»: «Избирательная работа памяти, – пишет Б. В. Аверин о “Жизни Арсеньева”, – движима своей собственной логикой 〈…〉 Значимым оказывается для памяти не содержательность эпизода, но интенсивность связанного с ним чувственного переживания мира»[96]. Еще более обобщена и укрупнена с акцентом на восточной философии та же мысль у О. В. Сливицкой: «Бунин создает ощущение, что вся сотворенная им реальность лишь малая освещенная зона, и все, что в ней происходит, не имеет причин внутри нее. Она как бы находится под действием работы гигантских мехов, движение которых задано мировой пульсацией»[97].
Временная многослойность притчи о Гаутаме, ее многоступенчатость, конечно, существенно осложнена переходом от человеческого мира к природному и поэтическому, к символическим образам старинной легенды. Ткань рассказа делается сквозной, и настоящий момент «на корабле» теряется во временных наслоениях прошлого. Проницаемая граница между человеческим и внечеловеческим повышает значимость морского, пейзажного рисунка; стихийное, морское, вечное заостряет переживание природно-космического начала любви. Заметим, что конкретных, «жизненных» подробностей любовного треугольника не сообщается в тексте. Кроме самого высшего смысла, смысла любви вообще, читатель не узнает ничего о героине: как и почему она покинула писателя, была ли счастлива с врачом, и был ли счастлив он с ней и т. п. «Love story» охватывает не человеческий, а иной масштаб, поэтому заглавие рассказа морское, пейзажное – «В ночном море»[98]. Все человеческое сливается воедино в этом пейзаже, входит в морской ритм, теряет индивидуальные очертания.
В тексте есть одна особенность, отмеченная О. В. Сливицкой: в определенные моменты разговора героев читатель с большим трудом различает, кому принадлежит та или иная реплика диалога, поскольку герои согласны между собой, понимают друг друга, неразличимы в своей погруженности в жизненную стихию и в то же время в отстраненности от нее. «Читателю даже стоит некоторых усилий держать в сознании, кто из них “господин с прямыми плечами”, а кто – “пассажир под пледом”, кто врач, а кто писатель, кто победитель, а кто побежденный», – пишет О. В. Сливицкая[99]. В черновике реплики героев разнились еще меньше, и Бунин поверх основного теста вставлял пояснения для читателя: «сказал первый», «ответил второй»[100].
Отстраненность от жизненной и природной стихии и в то же время погруженность в нее представляют у Бунина две полярные возможности переживания бытия. Рассказ начинается с описания толпы, осаждающей пароход на рейде:
На пароходе и возле него образовался сущий ад. Грохотали лебедки, яростно кричали и те, что принимали груз, и те, что подавали его снизу, из огромной баржи; с криком, с дракой осаждала пассажирский трап и, как на приступ, с непонятной, бешеной поспешностью, лезла вверх со своими пожитками восточная чернь; электрическая лампочка, спущенная над площадкой трапа, резко освещала густую и беспорядочную вереницу грязных фесок и тюрбанов из башлыков, вытаращенные глаза, пробивавшиеся вперед плечи, судорожно цеплявшиеся за поручни руки; стон стоял и внизу, возле последних ступенек, поминутно заливаемых волной; там тоже дрались и орали, оступались и цеплялись, там стучали весла, сшибались друг с другом лодки, полные народа, – они то высоко взлетали на волне, то глубоко падали, исчезали в темноте под бортом (5; 99).
Люди нарисованы Буниным метонимично (тюрбаны, башлыки, глаза, плечи, руки) – так, что целостный образ человеческого разбивается на части, и человеческое замещается неуправляемым, хаотическим. Картине неуправляемого волнения противопоставлены тихие пейзажи с застывшими звездами и спокойными водами, этим пейзажам по тональности и настроению вторит беседа героев, хотя один из них говорит о страсти, чуть не сгубившей его («Из-за чего же я чуть не спился, из-за чего надорвал здоровье, волю» – 5; 104), а другой – о скорой собственной смерти:
Дул мягкий ветерок южной летней ночи, слабо пахнущий морем. Ночь, по-летнему простая и мирная, с чистым небом в мелких скромных звездах, давала темноту мягкую, прозрачную. Далекие огни были бледны и потому, что час был поздний, казались сонными. Вскоре на пароходе и совсем все пришло в порядок, послышались уже спокойные командные голоса, загремела якорная цепь… Потом корма задрожала, зашумела винтами и водой. Низко и плоско рассыпанные на далеком берегу огни поплыли назад. Качать перестало…
Можно было подумать, что оба пассажира спят, так неподвижно лежали они в своих креслах. Но нет, они не спали, они пристально смотрели сквозь сумрак друг на друга. И наконец первый, тот, у которого ноги были покрыты пледом, просто и спокойно спросил… (5; 100);
И собеседники еще раз помолчали. Пароход дрожал, шел; мерно возникал и стихал мягкий шум сонной волны, проносившейся вдоль борта; быстро, однообразно крутилась за однообразно шумящей кормой бечева лага, что-то порою отмечавшего тонким и таинственным звоном: дзиннь… Потом пассажир с прямыми плечами спросил… (5; 105).
Однако, если сначала героев можно перепутать, как и их взгляд на давно прошедшие события, то чем дальше продвигается повествование, тем острее становится их различие, и даже намечается их противостояние. Беседа походит на движение моря, спокойствие которого легко переходит в волнение, бурю и вновь затихает, воплощая музыкальную модель с всплесками противоречивых тем и их примирением, гармонией. Сперва врач молча слушает рассказ писателя, лишь изредка недоумевая по поводу силы тех чувств, которые тот пережил, а писатель извиняется за метафоричность и эмоциональность своих речей, всячески подчеркивая, что пережитое осталось в прошлом. Выслушав историю с собственным участием из уст антагониста, врач утверждает, что все рассказанное писателем – порождение эмоциональных состояний, следствие яркой психической жизни: «Та, другая, как вы выражаетесь, есть просто вы, ваше представление, ваши чувства, ну, словом, что-то ваше. И значит, трогали, волновали вы себя только самим собой. Разберитесь-ка хорошенько» (5; 106). Но для писателя любовь выходит далеко за пределы его собственного психического «я», он рассказывает притчу о Гаутаме потому, что и сам переживает неподвижную и бесконечную историю мира, которая гораздо шире его биографии и даже роднит его с соперником, как и с прочими людьми, сейчас или «мириады лет тому назад» познавшими мистическое любовное узнавание.
Смертельно больной врач не проникается пафосом своего оппонета, сохраняя скептический взгляд на вещи. Причин тому может быть несколько, в том числе та, что «господин с прямыми плечами» не испытывал по отношению к героине тех же чувств, что писатель, это легко предположить, слегка додумывая текст Бунина. Так или иначе, врач настроен атеистически и утверждает конкретику бытия в противовес идеям одушевленности и протяженности мира. При всей похожести и внешнем согласии, даже слиянии персонажей, текст позволяет увидеть, какая пропасть лежит между атеистической имперсональностью, описанной от лица врача, и пантеистической всеобъемлемостью писательского взгляда. По сути, только писатель взывает к жизни ушедшую любовь, тогда как его счастливый соперник рассказать о ней ничего не может, зато врач вносит в диалог ноту сомнения в сопричастности друг другу разных душ, в сопричастности времен, а также вводит тему богатства и неисчерпаемости психического «я».
Интересно то, что и во втором герое, казалось бы, лишь «прозаизирующем» высокие поэтические и любовные темы, можно тоже разглядеть авторскую, писательскую ипостась. На «господина с прямыми плечами» брошены беглые «чеховские» блики: «Будущим летом вы вот так же будете плыть куда-нибудь по синим волнам океана, а в Москве, в Новодевичьем, будут лежать мои благородные кости» (5; 102), – произносит он, и это напоминает о кладбище в Новодевичьем монастыре, о реальной могиле Чехова (писателя и врача), а также о кладбищенском эпизоде в «Чистом понедельнике»:
– Хотите поехать в Новодевичий монастырь? 〈…〉
Мы постояли возле могил Эртеля, Чехова. Держа руки в опущенной муфте, она долго глядела на чеховский могильный памятник, потом пожала плечом: