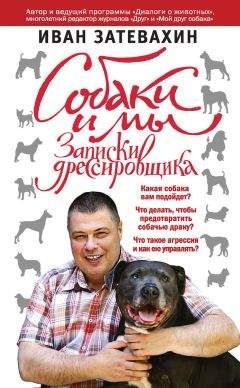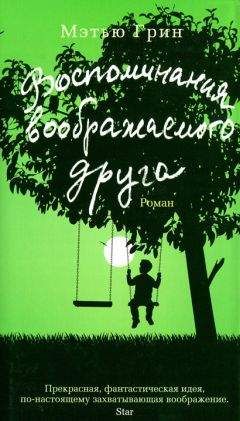Иван Давидков - Прощай, Акрополь!
Этим поездом, целый день качаясь по заснеженной равнине, где все притихло и обмякло в медленном кружении метели, Атанас Евгениев, отец Златины, и его жена Елена ехали в Софию. По перронам запорошенных снегом станций стучали мокрыми сапогами крестьяне, тащившие мешки с шерстью или гусей с отполированными снегом крыльями. Снег таял на воротниках полушубков, на скамейки капало, шумные пассажиры, не раздеваясь, разворачивали газеты, в которых лежали жесткие деревенские лепешки, фаршированный фасолью перец или куриные ноги со студенистым мясом. Они жадно, будто неделю голодали, набрасывались на еду. Угощали своей снедью соседей, те отказывались, но крестьяне не оставляли их в покое до тех пор, пока они не брали хоть кусочек.
Железнодорожная линия то приближалась к шоссе — и тогда на его глянцевитой поверхности были видны желтоватые пятна конской мочи, то отдалялась от него — и рельсы исчезали в мглистой дали, где проступали тополя, бледные, едва различимые за пеленой падающего снега, похожие на дым из деревенских труб.
Атанас Евгениев разглядывал крестьян, обложенных со всех сторон мешками, и думал, что они с женохт сейчас похожи на этих кочующих в поездах людей, спешащих на неведомый ему огромный базар, куда, словно по чьему–то заказу, непрерывно надо было поставлять гусей, мешки с шерстью, вянущий красный перец и связки лука, разлохмаченные вагонной тряской.
Корзины и узлы, которые Атанас Евгениев приготовил для своей дочери, тоже заняли бы целый прилавок на базаре: старики везли с собой припасы на всю зиму — от пучков сухого укропа до двух оплетенных бутылей, запечатанных (чтобы вино не выветривалось) парафином. Они с женой были завалены вещами. Вещи были засунуты под сиденье, давили им колени, упирались в бока. А наверху в багажной сетке поскрипывали, стукаясь друг о друга на поворотах, два туго набитых чемодана.
Со всем этим скарбом, словно они переселялись насовсем, родители Златины прибывали в Софию. Озирались в толпе на перроне, стараясь различить дочь среди поднятых воротников, пушистых от снега шапок и отверделых под снежной коркой зонтов. Напрасно… Толпа встречающих редела, старики догадывались, что их телеграмма не дошла, и, потные от натуги и чувства неловкости, тащили свои пожитки к выходу. Сесть в трамвай было бы делом немыслимым, и Атанас Евгениев отправлялся ловить такси. Остановив машину возле груды вещей, шофер сначала отказывался посадить несчастных, но потом, смилостивившись, запихивал в багажник узлы и корзины, водружал на колени продрогшим старикам чемоданы, и машина катила по городу.
Поздно вечером, сойдя с трамвая, Златина замечала, что в окне ее кухни горит свет. Отперев дверь, она натыкалась на стоящую у самого порога корзину. Она включала свет и протискивалась между узлов, горой наваленных в прихожей. Увидев на вешалке старое материно пальто, а под ним обшарпанные боты отца, Златина уже не сомневалась, кто ее нежданные гости.
Родители, по своему обыкновению, приехали пожить у нее зиму…
Она была готова отругать их за то, что они приезжают без предупреждения, но, разглядев в приоткрытую дверь на кухне щуплую фигурку матери, склонившейся над электрической плиткой, а рядом с ней отца, одетого в домашнюю куртку с желтыми шнурами, которая делала его похожим на воеводу, Златина улыбалась и протягивала руки, чтобы обнять дорогих гостей, уставших от долгой дороги.
— Это что же у вас за столичная почта? — смотрел на нее прищуренными глазами Атанас Евгениев. — Я еще утром послал телеграмму, куда ж она могла деться?
— Я открывала ящик, ничего не было… — отвечала тихо, словно оправдываясь, Златина.
— Придет завтра почтальон, уж я ему покажу, самого заставлю на вокзале караулить! — грозился отец. (Щетина на его щеках стала совсем седой, и оттого лицо со светло–коричневой, как у мулата, кожей казалось сужавшимся к подбородку.) — Гляжу–гляжу на вокзале, нет тебя. Дело ясное, кричу одному шоферу: «Эй, парень, здорово! Не подбросишь нас с бабкой до дому через центр?..» — «Отчего не подбросить, подброшу! — отвечает. — Для тебя, бай Атанас, хоть на край света!..»
— Знакомый твой попался?
— А как же! Меня все шоферы на вокзале знают. Что я, первый раз в Софию приезжаю?
— Постарел, а врать не отучился, — бросала на него укоризненный взгляд жена и наклонялась перевернуть висевшие над печкой мокрые носки мужа. — Увидел человек, что я вся закоченела, и пожалел. А то хлюпал бы ты носом и по сю пору на вокзале.
— Не хлюпал и не буду, — самоуверенно отвечал Атанас Евгениев. — Знаю я их: дай им на чай — на руках понесут!
Златина достаточно хорошо знала своего отца и его «аристократические» замашки. Глядя на пар, поднимавшийся от его мокрых носков, она представляла себе, как отец, расстегнув потертое старомодное пальто, долго шарит двумя пальцами в кармане шерстяной кофты, доставая бумажный лев, потом расправляет загнувшиеся углы и небрежным жестом протягивает его шоферу, желая ему приятного пути и счастливых встреч.
Златина уходила на работу рано, иногда наскоро поев, а иногда даже не притронувшись к тарелке, в которую мать положила яичницу (застывший желток вздувался от кусочков брынзы). Устав за день, Златина долго не могла уснуть, прислушивалась к равномерному дыханию матери, спавшей у окна, — тихое посвистывание, словно за стеной, в кухне у соседей, забыли на плитке чайник. Она вертелась под одеялом, посматривала на небо — чернильно–синее в верхнем углу окна и совсем бледное над крышами (куда доходил свет уличных фонарей) — и думала о неотредактированных материалах, о стареющих родителях, с надеждой и беспомощной добротой смотрящих на нее, о засорившейся мойке, о том, что слесарю опять придется долбить стену… Но едва под утро она погружалась в сон, как его прерывал звон будильника. Она нехотя вставала, набрасывала синий халат и вбегала в ванную, хлопнув за собой дверью. Минут десять оттуда слышался плеск воды, а когда эти звуки прекращались, долетал стук оброненной крышечки от банки с кремом или упавшей шпильки.
Златина выходила на кухню преобразившейся. Лицо ее, освеженное холодной водой, слегка подкрашенное, розовело, теней под глазами как не бывало. В темно–карих глазах, опушенных густыми твердыми ресницами, поблескивали веселые искорки. Прозрачный розовый шарфик, небрежно повязанный у ворота темно–зеленой блузки, тоже весело трепетал. Глянув на часы (стрелки перемещались с неумолимой быстротой), Златина устремлялась вниз по лестнице, потому что еще немного — и она опоздает на работу. Мать, схватив кисточку винограда — ведь свой, из собственного виноградника! — бросалась вдогонку за ней. Златине некогда было оборачиваться, и, не замечая протянутой руки матери, она пробегала мимо почтовых ящиков с вечно испорченными замками и исчезала за домом.
Сев в переполненный трамвай, где развернутые газеты задевали ее лицо и плечи, Златина думала о матери — усталой женщине, на чьих коленях много лет назад маленькой девочкой она перелистывала первые свои книжки, ощущая на волосах прикосновение холодных, как дождевые капли, материнских бус. Думала о ее ночах, казавшихся ей глубокими и спокойными, об исхудалых, по–детски нежных и робких руках, о старости — этом беспощадном возрасте, когда разум блекнет, как выцветает газета от долгого лежания на солнце, а человек становится похожим на ребенка, покрытого морщинами, мучимого ревматизмом или одышкой, безмятежно кроткого или озлобленного, многое пережившего и многое успевшего забыть…
Это Златина особенно ясно осознавала, когда дарила матери старые платья.
Когда–то, еще до школы, да и в школьные годы, дочь носила юбки и пальтишки, перешитые из старых материнских платьев и пальто. Жили они тогда бедно. Отец разъезжал по придунайским селам и ремонтировал швейные машины марки «Зингер» и «Науман». Зарабатывал он мало, и, если бы не бережливость и изобретательность матери, вряд ли бы им удавалось сводить концы с концами. Елена распускала старые кофты, перекрашивала пряжу и вязала из нее дочери чудесные кофточки, в которых Златина целыми днями играла на улице, чтобы все видели, какая она красивая.
Это время наивной радости давно прошло. Теперь круг замыкался: мать, состарившаяся, маленькая, как девочка, донашивала платья и юбки дочери. Они были ей длинны, но Елена Евгениева укорачивала их и радовалась, что они почти новые, а гладкая подкладка скользит по телу. Златина отдала матери старую лисью шубу, протертую на локтях и вокруг петель. Впервые в жизни старая женщина надевала такую дорогую вещь. Заметно было, что шуба ей не совсем впору, но Елене в ней было тепло, да и на люди не стыдно было показаться, хотя соседки, не успевшие еще изучить ее биографию, поглядывали на нее с подозрением. Принимали скромную жительницу провинциального городка за бывшую собственницу национализированной мельницы или чесальной мастерской. Донашивает, значит, свои меха.