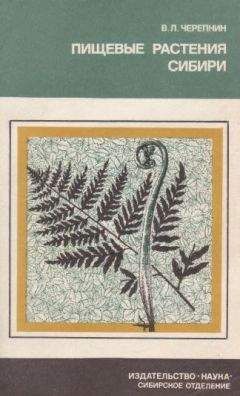Бердыназар Худайназаров - Люди песков (сборник)
— Сейчас встаю! — пробормотал я сконфуженно.
— Спи, сынок. Ты хорошо поработал. Надорвешься с непривычки.
— Там ягненок пропал… Сур. Украли!
— Знаю.
И опять я один в мазанке. И опять болезненная от усталости дремота вместо спа. Или это сон?
Я вновь увидел склоненное надо мной лицо, только без морщин и с черной бородой, услышал голос: "Ты как здесь оказался, сынок?" — "Своего верблюда искал!" — "Ох, какой ты глупый!" Нет, это не сои.
У нас действительно был верблюд. Золотистый, как ягненок-сур, и послушный, как верный пес. Он нас здорово выручал, этот верблюд. Отец возил на нем воду, зерно, дрова. Когда мы переезжали на летовку, на верблюда грузили столько тюков, что из-под них виднелись его мосластые ноги да длинная шея с маленькой гордой головой. Я шел за ним, держась за хвост: так меньше ощущалась усталость.
Верблюды в особом присмотре не нуждаются. Они уходят в пустыню, пасутся там, а затем вновь возвращаются домой. Они остались вольными кочевниками, когда люди, их хозяева, перестали кочевать.
Так в знойную летнюю пору ушел в пустыню и наш верблюд. День пролетал за днем, минула неделя — он не возвращался. Кроме меня, в нашей семье никто не волновался: какая разница — не пришел на этой неделе, объявится на следующей. Я же чувствовал себя сиротой. По правде говоря, я не столько был обеспокоен судьбой верблюда, сколько своей собственной; в соседних дворах сидели и лежали верблюды, задумчиво перекатывая во рту жвачку, и мои сверстники-друзья, десятилетние мальчишки, оседлав их горбатые спины, не выезжая со двора, совершали далекие путешествия в неизведанные страны или преследовали бандитов. А наигравшись, поднимали своего верблюда и, держась за хвост, важно направлялись на глазах всего аула к колодцу на водопой… Один я был лишен такой возможности!
Ранним утром, не сказав никому ни слова, тайком наполнив водой бутылку, обмотанную кошмой, я отправился на поиски. Кое-какие основания для успеха у меня имелись: след нашего верблюда трудно было спутать с другими, потому что на копыте правой передней ноги была у него зазубрина. Так что я решил кружить окрест аула до тех пор, пока не наткнусь на знакомый след, а там уже легко доберусь и до его хозяина. Если не найду след, то добреду до соседнего аула: может, там кто-нибудь знает о моем верблюде.
Сначала мне не везло: песок вокруг аула был истоптан. Я отошел подальше и в неглубокой впадинке обнаружил знакомые следы. Они тянулись в пустыню, но я не раздумывая двинулся по ним. Без верблюда я твердо решил домой не возвращаться.
Может, я и нашел бы его, если бы накануне в сторону Теджена не прошла отара, начисто затоптавшая все следы. Сколько я ни пытался вновь найти их, все было понапрасну.
Солнце на небе, потемневшем от жары, казалось отверстием горящего тамдыра, в котором пустыня собиралась испечь все живое, и все живое, словно понимая это, попряталось от испепеляющего зноя. Я — один в песках. Задыхаясь во впадинах, я спешил подняться на барханы, но там песок обжигал ноги даже сквозь чокаи, заставляя поскорее спуститься в очередную впадину. Вода в бутылке давно кончилась. Я заблудился, вокруг были бесконечные раскаленные пески. Даже если бы я взял правильное направление, все равно бы уже не сумел дойти до аула; тело высыхало с каждой минутой, кожа на нем натягивалась, затрудняя движения. В глазах темнело. Сердце выпрыгивало из груди, словно тоже хотело куда-то спрятаться от солнца.
Говорят, в детстве мысль о смерти не приходит в голову, даже когда смерть близка. Пожалуй, верно; я не думал о ней, хотя она была совсем рядом, а только испытал безотчетный и безумный страх, окончательно лишивший меня сил и заставивший рухнуть лицом вниз. Потом мне почудились голоса. Я застонал и открыл глаза. Никого!
Поэтому я не поверил, когда почувствовал, что меня переворачивают на спину, разжимают зубы, вливая в пересохшее горло струйку прохладной воды. Сознание возвращалось медленно. Наконец я пришел в себя и увидел склонившееся ко мне лицо с черной густой бородой. Борода закрывала полнеба, и в другое время я, наверное, испугался бы. Но сейчас безжалостное небо пугало меня больше, и вместо страха я почувствовал благодарность к этой бороде, от которой падала тень на мое воспаленное лицо.
Тут я и услышал слова: "Ты как здесь оказался, сынок?" — "Своего верблюда искал". — "Ох, какой ты глупый! Ты, наверное, из аула Дашли?" — "Да". — "Анкар-ага — твой дед?" — "Откуда вы знаете?" — "Кто тебя в такую жару послал за верблюдом?" — "Никто. Сам пошел". — "Ну, вставай, домой пора".
Мы двинулись к аулу. Я едва шел, и мой спаситель, наверное чтобы поддержать мои силы, то начинал ругать меня, то рассказывал, как шел он два дня по следу волка, пока не наткнулся на мой след. "Пустыня — не лужок, где ты играешь в альчики! Пустыня проглатывала и не таких глупых, как ты!" — "Но вы же идете по ней!" — пытался возразить я. — "Я — следопыт! — отвечал он с гордостью. — Чтобы идти по пустыне, надо много знать, мальчик. Вот вырастешь, станешь следопытом, тогда ничто тебя не остановит!"
Неужели это был Каратай-ага? Но почему он ничего не сказал мне, когда встретил здесь, в Аджикуйи? Забыл? Или не захотел напрашиваться на благодарность? Ну что ж, я сам напомню ему. Не ради простого любопытства: он ли? И не ради того, чтобы высказать запоздалую признательность, если он действительно оказался моим спасителем, — она ему не нужна. Это нужно было мне, хотя я и не смог бы ответить, если бы меня спросили: "Зачем?" Далекое воспоминание неведомым образом смыкалось в моем сознании с сегодняшним днем, с поездкой в Аджикуйи, с ожиданием Мерета Касаева, с отношением чабанов ко мне и моей обидой на них, с ночной работой в промерзшей пустыне, с пропажей сура в соседней отаре… Я почувствовал легкий озноб и странное, чуть хмельное возбуждение, поняв в полусне: все это материал моего репортажа, который уже давит на меня и который я еще никак не могу осмыслить, чтобы изложить на бумаге. Выходит, что бы я ни делал здесь, в Аджикуйи, подчиняясь больше душевному порыву, чем рассудку, — все прорастало в моем сознании будущим репортажем. Только совсем не таким, каким он представлялся мне, когда я ехал сюда.
Разбудило меня тоненькое жалобное блеянье. Возле моей головы стоял ягненок и смотрел на меня, словно хотел что-то сказать.
— Что, дурачок? — спросил я, потрепав его за ушки. — Почему ты здесь оказался?
Он был как игрушечный. Даже свежее тавро на его ушках в виде буквы "Н" казалось фабричной этикеткой. Я вспомнил другое тавро — букву "Б" на ушах замерзшей овцы — и вздохнул.
За перо браться было еще рано, но все же я не выдержал и вытащил блокнот. С внутренней стороны обложки, как всегда, глянула на меня Садап. Этот блокнот с вклеенной в него фотографией — ее подарок. Внизу вместо дарственной надписи — "Пусть всегда буду я!". Ниже еще одна, моя: "Трудно, но попробую…" Дурачились. Как давно это было! Почти полгода назад. Да, точно, еще до моей поездки к Касаеву: на первых страничках блокнота — записи, сделанные во время этой поездки. На фотографии — Садап как артистка: глаза и губы. Поэтому сбоку еще одна моя надпись: "Известная актриса Садап Атаджанова в роли любящей супруги". И наискось, как резолюция, ее сердитое: "Осел!"
Это у нас еще со студенческой скамьи. Привычка объясняться записками. Собственно, и начались наши отношения с записки, строгой и холодной как лед: "Товарищ Атаджанов! Почему вы не были на собрании?" Тогда мы в первый раз выбрали Садап в комитет комсомола, и она взялась за дело всерьез. Я послал ей в ответ шутливое объяснение: мол, был очень занят, писал поэму о несчастной любви рядового комсомольца к члену комитета. И тут же, с ходу, набросал начало этой поэмы… И началась у нас с Садап война! Ох, как мне доставалось от нее! Она безжалостно вытаскивала на всеобщее обозрение все мои слабости, предварительно обобщив их на принципиальной основе. Стоило мне пропустить лекцию — и я уже оказывался в лодырях, на которого государство зря тратит деньги; стоило провести со знакомой девчонкой вечер в парке — и я уже был едва ли не аморальный тип… Не отвечая на обвинения, я посылал ей главу за главой все ту же дурашливую поэму о трагической любви рядового комсомольца; не помню содержания, остались в памяти лишь строчки, которыми начиналась каждая глава: "О, снизойди ко мне, мой комсомольский бог! Дай мне любви хотя б один глоток!" Эти строчки почему-то особенно бесили Садап. Потом мы оба поняли, что причина этой войны — любовь, что деваться нам от нее некуда. Для друзей наша свадьба была как гром среди ясного неба. "Одумайтесь! — говорили они. — Вы и сейчас не хотите уступить друг другу ни в чем. Что же будет после свадьбы?" — "Вам нравятся тихие и покорные? — отвечал я. — Вот и женитесь на них. Только вам с ними и сейчас скучно. Что же будет после свадьбы?"